
переводы
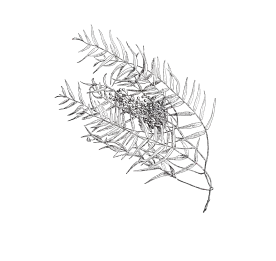
Я живу в раю. Меня зовут Джек. Я собака. Я тоскую по моему старшему другу, оставшемуся внизу, – хотя тут никак нельзя определить, где верх, а где низ. Да и тосковать у нас не заведено; я ни разу не видал здесь кого-нибудь, кто бы тосковал . или хотя бы грустил. Все счастливы.
А я тоскую о Юре. Руки его – вот самое главное; как он проводил ладонями, гладил мою голову от носа к ушам и снова, и снова, и его нежность по капле переливалась в меня. Никто так не умел делать, только он один, а ведь сколько чужих рук тянулось ко мне – погладить, потрепать холку. И ни у кого это не получалось так хорошо, как у моего Юры, потому что он любил меня,
а я его… Я жду его, хочу, чтобы он пришёл поскорей, а он, я знаю, не торопится: там, внизу, никто не спешит распрощаться с той жизнью, какой бы она ни была.
Сколько мне осталось ждать, я не знаю, потому что у нас никто не ведёт счёт времени, оно здесь просто не существует. Да и там, внизу, я время не мерял, не поглядывал всё время на стрелки, как человек, который их и придумал на свою беду. День-ночь – это другое дело, это я различал, правда, без особого предпочтения; темно или светло – какая разница?
А мой Юра говорил: «День да ночь – сутки прочь»; значит, он вёл счёт этим самым суткам, составленным из часов и минут. А зачем их считать, какой от этого прок и радость? Чтоб знать, сколько тебе отбило лет и когда звать гостей на день рождения?
Моя, например, жизнь состояла из одного мига – от начала и до конца. А по человеческим подсчётам я прожил двенадцать лет, заболел, и тогда меня усыпили. Люди заблуждаются, уверенные, что мы не понимаем их язык; понимаем, и ещё как! Прежде чем произносить слова, . они, сами того не замечая, складывают их в глубине своего сознания – а мы замечаем и понимаем. Людиголо в большинстве своём думают, что мы просто милые дурачки, затвердившие несколько их распоряжений; впрочем, многие из нас тоже так думают – о людях.
Ждать родного человека – это настоящее испытание. Я знал одного добермана, его старший друг, по профессии лингвист, уехал куда-то, должен был вернуться и задержался. Доберман ждал-ждал и умер от ожидания. Заполз под кровать лингвиста, долго оттуда не вылезал и через неделю умер.
Мой Юра любил говорить своим знакомым: «Если бы Джек не был такой красивый, все бы подумали, что он очень страшный». А всё дело в том, что я по породе чистокровный боксёр, и многие, глядя на меня, просто приходили в неописуемый ужас. Чего это они так пугались? Ведь красота понятие не только растяжимое, но и совершенно условное; и что одним кажется сказочной красотой, другим представляется законченным уродством. Взять, например, природных китайцев – для них все подряд европейцы на одно лицо и все нехороши собой.
Юра распахнул заднюю дверцу машины и подсадил меня, чтоб я смог забраться внутрь.
– Садись за руль! – сказал Юра Тузику. – А я с ним сзади, а то он будет бояться.
Так мы и поехали домой, на Миндальную, 23. Я растянулся на мягком диване, на коленях моего Юры, а он стал поглаживать мне голову от носа к ушам и приговаривать: «Хорошая собачка, хорошая собачка!» Убаюканный этой ласковой приговоркой, я задремал. Мне снился рай, один на всех – зелёное поле, по которому ходят люди
и собаки. Я не могу понятно объяснить, как до меня доходят новости с Миндальной, 23. Доходят! Может, оттого, что там, внизу, меня больше ничего не интересует – только моя семья. Вот поэтому, может, и доходят… А собачьей семьи у меня никогда не было.
Мы жили в двухэтажном коттедже, и я поначалу не мог подниматься по лестнице, потому что раньше, на Юге, на овощной ферме, у нас был одноэтажный дом, и лестниц там вообще не было ни одной; вот я и не умел подниматься по ступенькам, а потом научился и привык. Мы вообще ко всему привыкаем, и человек привыкает ко всему ещё быстрей, чем мы: к хорошему и к плохому. Это даже странно: мы от дурного бежим, огрызаемся и пробуем спастись, а люди к плохому привыкают и думают, что всё так и должно быть. К такому плохому и даже ужасному они привыкают, что это видно со стороны – нам, например. И мы удивляемся.