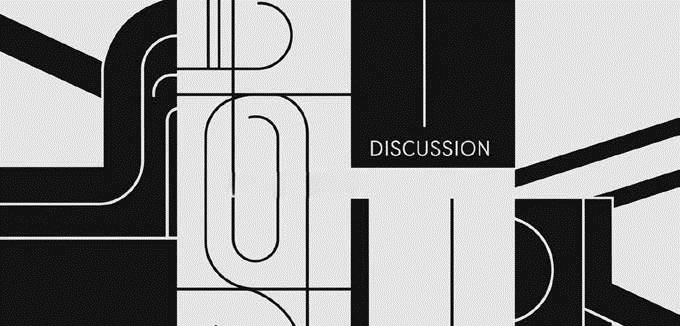
В декабре литературные издания в России обычно подводят «Итоги года» (такая традиция): какие произведения вы считаете самыми значимыми, какие новые имена появились, какие новые тенденции в литературе кажутся вам перспективными? На вопросы отвечают критики, писатели, организаторы литературных площадок… Читая эти итоги, видишь, что вроде бы все почти как обычно, ничего никуда не делось: выходят интересные произведения, проводятся фестивали поэзии, работают писательские резиденции, в литературу пришло новое поколение двадцатилетних со своим новым способом высказывания… Правда, с этими радующими новостями, свидетельствующими, что литература жива, соседствуют другие — о Беркович и Петрийчук, о все нарастающем разрыве между уехавшими и оставшимися… Картина кажется странно неоднородной, в ней что-то не срастается. И все, кто читает эти тексты, понимает — что именно. За всем этим стоит война. Но говорить о ней на территории РФ все более и более рискованно. Именно война — тот контекст понимания, чтения и письма, в котором теперь звучит любое высказывание на русском языке, даже никак войны не касающееся. Война изменила пространство существования русской литературы и ее восприятие, и с этим фактом нельзя не считаться — хотя бы потому, что пресловутый «символический капитал» литературы — капитал почета, известности, славы — по определению, неминуемо завязан на власть, ее деньги и отношения с ней. И до полномасштабного вторжения России в Украину все крупные литературные премии и крупные издательства (вроде «Эксмо-АСТ») были зоной компромисса с властью (нет, никто не давил на решения премиальных жюри и редакций, но просто все вовлеченные в процесс лица чувствовали границу «приемлемого» или «поощряемого» в публичном пространстве, которая была достаточно широка и это давало ощущение свободы) — и как-то считалось, что компромисс этот — вполне морально допустим. Но с февраля 2022 года допустимость компромисса была поставлена под вопрос, как и моральная приемлемость авторской известности и востребованности в пределах России. Власть начала вычищать пространство мейнстрима от неугодных, и границы допустимого становятся все уже с каждым днем. Кажется, поощряется теперь уже не «нейтральное», а демонстративно лояльное… Что ставит под удар, дезавуирует всю систему литературных репутаций. Одновременно уже видны очертания другой, иной русскоязычной литературы, не связанной с институтами РФ, с российской властью. Что это? Новые сам— и тамиздат? Или что-то принципиально иное?
«Новый Иерусалимский журнал» — издание, с РФ не аффилированное. Наш журнал решил инициировать разговор о «другой русской литературе» и собрал редакторов литературных журналов, издателей, критиков, авторов, чтобы ответить на наши вопросы. Существует ли она, «другая русская литература»? Какие тексты и имена для нее важны, и почему? Можно ли говорить о новых «сам-» и «тамиздате»? Есть ли перспективы у проекта «глобальной литературы на русском языке» за пределами РФ? Как меняется роль литературного критика, литературного журнала, издательства? Что изменилось, а что — не изменилось в литературном пространстве РФ для вас лично?
Евгения Вежлян
Евгений Коган, сооснователь книжного магазина и издательства «Бабель» (Израиль)
Мы не можем сказать: «Вот началось полномасштабное вторжение — и спустя семь недель появился новорожденный тамиздат». Просто тот тамиздат, который появился давно — даже если не брать русских классиков, а начинать отсчет с так называемого «незамеченного поколения» русской эмиграции — никуда не исчезал все это время. Литература эмиграции военных лет, которая нами вообще не изучена, потом литература поколения Довлатова и Бродского, литература постсоветской эмиграции 90-х (в Израиле это очень большая и особенная тема), эмиграция 2000-х, и наконец уже сейчас — военная эмиграция… Линия тамиздата не прерывалась. Есть литература на русском языке, которая существует вне пределов России, есть литература на русском языке, которая существует в России, Израиле, Америке, и странно было бы ее разделять на две части.
Другое дело, что, если Советская власть, при всем своем тоталитаризме и репрессиях смогла все же породить литературу, в какой-то своей части дико талантливую и прекрасную, то Z-культура оказалась абсолютно мертворожденной: за время, пока идет полномасштабное вторжение, она ничего хорошего не породила. И я не верю, что она на это способна, потому что, в отличие от советской власти, здесь нет веры, это какая-то абсолютно продажная мерзость. Даже талантливые люди, попав под Z-каток, потеряли любые зачатки таланта.
Изменилось другое. Теперь мы, люди, которые живут вне России, должны еще более внимательно относиться к собственным словам, потому что сейчас пространство русского языка стало пространством боли для очень, очень большого числа людей. Каждое наше слово может ранить. В этом смысле ответственность русского языка и так называемой «русской культуры» (не люблю это понятие) повысилась. Мы должны внимательно следить за тем, что мы говорим.
После премии «Большая книга» у меня началась переписка с одним прекрасным писателем, который живет в России. Наши письма были пронизаны болью. Мы пытались понять друг друга. Он писал мне, что участие в публичных мероприятиях в России важно, потому что все публичные площадки забиты упырями с буквой Z на лбу, и если у нас есть возможность куда-то влезть и сказать что-то другое, важное, то ее нужно использовать до последнего. Поэтому, писал он, я участвую в том числе и в «Большой книге». Но если б вы получили ее, писал я ему, вам пришлось бы фотографироваться с Прилепиным. Вы стали бы? Он ответил мне — да, потому что нас отовсюду выгоняют и это может быть последний шанс что-то сказать. «Вы не представляете, какое количество людей приходит на фестивали не на них, а на нас», — писал он мне. Я счастлив, что я не стою перед этим выбором. Уйти в подполье способны немногие. И когда в Питере возник «Клуб-81», то многие наши любимые поэты и писатели в него вошли, даже зная, что это чекистское образование, потому что, по их мнению, это был единственный шанс донести до кого-то свои слова. И была группа людей, например авторы Малой Садовой, которые отказались туда вступать, потому что «нельзя ходить на собрание нечестивых». Мне очень хочется думать, что я такой же, как эти, не вступившие. Но я не знаю, как бы я себя повел. И не хочу знать.
Что касается литературной критики — здесь есть проблема. Мне кажется, что у нас осталось литературоведение, и у нас совсем нет литературной критики в том смысле, в котором мне бы хотелось ее видеть. Мы научились издавать книги, мы научились продавать книги, но, к сожалению, наш потенциальный читатель ничего про нас не знает, потому что на третий год полномасштабного вторжения у нас до сих пор нет книжного медиа, которое бы рассказывало про книги на регулярных основаниях. Не такое, которое публикует одну рецензию в месяц и одно интервью, не некое высоколобое интеллектуальное чтение не для всех, не проект вроде «Билли», который больше предназначен для профессионалов, издателей и книжных распространителей, чем для читателей, — а нечто вроде London Review of Books. Это толстенная бумажная газета, наполненная рецензиями на книги. Нужно издание, из которого человек, живущий на улице Бен-Иегуда или на улице Пятая Авеню, который хочет читать книжки, но ничего о них не знает, мог бы узнать о том, что выпускается. А у нас «Новая газета» пишет в основном про Freedom Letters, «Медуза» пишет в основном про «Медузу», а больше никаких медиа в этой нише почти что нет… Появляющиеся в других медиа новости типа «в издательстве таком-то выходит книга такая-то» — это очень круто, это то, что мне нужно. Но и это бывает редко. Отличный ресурс сделал Глеб Морев. Но и это не то, о чем я говорю. Мы думаем о собственном медиа, и не только мы. Посмотрим, что из этого получится.
Читателю нужна информация. Мы издаем неплохие книжки, но не можем донести о них информацию до читателя. Ни три с половиной тысячи подписчиков нашего телеграма, ни шестнадцать тысяч подписчиков нашего фейсбука не делают погоды. Но когда про нас пишет «Горький», находящийся в России, — у нас взлетают продажи. Нам нужны информационные медиа о книгах. Пока их у нас нет. Пока мы все, новые издательства, появившиеся после 24 февраля, — маленькие и незаметные, у нас мало сил и мало денег. Но надо делать свое дело и пытаться делать его хорошо.
(записала Евгения Вежлян)
Татьяна Бонч, поэтесса, литературный критик, соредакторка журнала «Артикуляция» (Австралия)
Для меня русскоязычная литература не ограничивалась и не ограничивается сейчас пределами России, говорить ли об авторах или об институциях, то есть изданиях, издательствах, литературных премиях. Последние, может быть, не такие «институциональные», как те, что в метрополии, но значительные и интересные.
Отсутствие привязки к географической локации, кстати, касается не только русской литературы. В современном мире сложно обозначать издание по месту публикации – у больших издательств выходят книги одновременно и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Сиднее. У небольших — в системе принт-он-деманд, как Лулу или Амазон, то есть также по всему миру. Это позволяет энтузиастам издавать книги в любом количестве, по весьма демократической цене и в краткие сроки. Сейчас точки публикации Лулу расположены по всему миру и связаны между собой, так что даже на пересылку тратиться не нужно. Этой системой пользуются самые разные люди и организации, от научных конференций до издательств и просто энтузиастов.
Так что вопрос про «тамиздат» в определенном смысле условен — если говорить о мирном времени. Публикация книг и журналов на русском языке за пределами России существовала задолго и независимо от нынешней катастрофы. Военное время и его ограничения влияют, разумеется: ряд книг невозможно представить опубликованными и продаваемыми в России сегодня. С каждым путинским годом их реестр все увеличивался, сегодня под экстремизм, дискредитацию, пропаганду всего на свете попадает безумное количество публикаций. Все же они издаются так называемыми «экстремистскими» издательствами, в расчете на читателя вне России или какого-то хитрого пути к российскому читателю, с возможными карами, если найдут на границе или в стране. Это уже близко к традиционному пониманию «тамиздата». Но в основном «где-издат» — понятие, почти утратившее смысл.
Ответ на вопрос, существует ли другая русская литература, зависит от того, как понимать «другую» – как существующую вне метрополии? Да, очевидно, она есть, и давно. С первой эмиграции, по меньшей мере, и, как оказалось, с важнейшими авторами для литературы на русском языке, или авторами, по привычке причисляемыми к русской литературе, хотя они перешли уже на другой язык и на русский их тексты только переводились.
Можно и раньше проследить, хоть от Герцена — по политическим причинам, или Тургенева или Достоевского как экспатов. Рассеяние существует давно, волны эмиграции были в различные страны, и издания на русском языке существуют на всех континентах, с их различной историей и сменой поколений издателей, редакторов, авторов. Некоторые известны лучше, другие – хуже, но они были и есть. Как сегодня делить литературу на созданную или изданную в метрополии – «ту» и за границей – «другую»?
К тому же, если издание независимое, выпускается энтузиастами, расположенными территориально в России или за ее пределами, – это литература «та» или «другая»? И напротив, есть публикации последних лет и в толстых журналах (не буду приводить примеры), и в российских издательствах, которые могли бы вызвать гнев цензоров, но произошли же.
Лично для меня – издавна, с тех пор, как я сама участвую в литературном процессе, современная русскоязычная литература существовала вне зависимости от географии. В Америке – «Интерпоэзия» Андрея Грицмана, «СтоСвет» Ирины Машинской и Олега Вулфа, затем – только Ирины Машинской, был «Черновик» Александра Очеретянского (очень жаль, что сайт перестал быть доступен с его смертью), в Европе – «Камера хранения» Олега Юрьева и других, в Израиле – «Зеркало», «Иерусалимский журнал», «Семь искусств», как и «Двоеточие» и другие проекты Гали-Даны и Некода Зингер. В некоторых случаях географическое определение сложно: костяком журнала «Крещатик» были украинские редакторы, при том, что основатель Борис Марковский жил в Германии, другие редакторы – в России и по всему миру. «Черновик», к слову, тоже делался киевским поэтом и редактором Александром Моцаром.
В нашем проекте «Артикуляция» изначально было пять редакторок: трое из России, одна из Израиля и одна из Австралии. Теперь стало (надеюсь, что еще вернемся к прежнему составу) трое, и, если определять географически, двое из Израиля, одна из Австралии. А тексты мы публикуем на русском и на английском языке, вернее, у нас есть независимый проект Transitions внутри проекта «Артикуляция», в котором публикуются англоязычные тексты.
Я в свое время вела проект «Антиподы», сначала задуманный как австралийский. Даже провела, с командой друзей, три фестиваля австралийских авторов русской литературы. Потом перешла к отдельным проектам и уже без географической привязки авторов – приглашала авторов со всего мира, собирала интересные тексты, посвященные числу ПИ, тексты по спирали, сверхкороткие тексты…
Сегодня, в связи с войной, репрессиями и новой волной исхода из России, одни издания закрываются, и очень жаль, другие открываются. Проект «Ф-письмо» закрылся, а «Кружок гендерных свобод» есть. И новых немало – журналы, книжные издательства и даже новые премии: «Пятая волна» Максима Осипова, ROAR Линор Горалик и команды, казахстанский русскоязычный журнал «Дактиль», Freedom Letters Георгия Урушадзе… Еще один новый проект «Слова вне себя», позиционируемый именно как «медиа о литературном процессе на русском языке за пределами России и не только». Премия «Дар» швейцарской ассоциации славистов, председатель жюри Михаил Шишкин. Они только объявили об учреждении премии, еще нет номинантов и лауреатов, но думаю, будет интересно.
Что касается имен — я, собственно, некоторое количество имен уже перечислила. Были и есть много-много авторов, и живых, и ушедших, в Америке, Европе и бывших советских республиках. Опять же – зачем делить, кто живет в России, кто в Европе, Америке, Казахстане, Грузии, Турции… Новые имена, новые направления даже, конечно, появляются: я недавно познакомилась с текстами Еганы Джаббаровой, Алисы Ройдман, обе уехали из метрополии. Но многие молодые авторы становились известны еще по премии Драгомощенко, независимой российской премии, ныне несуществующей.
Еще один момент. Есть русскоязычные авторы, известные на Западе, переводимые, ценимые: Светлана Алексиевич, Борис Акунин, Михаил Шишкин, Сергей Завьялов… Русская литература на Западе как явление существует, и можно даже назвать имена современных авторов-экспатов, пишущих на других языках, во Франции, Америке и пр. Мы будем по-прежнему относить их к русской литературе, как относим тексты Набокова?
Также есть переводы русской литературы вне российского пространства. Во время войны выходили уже книги переводов на английский, например антология Dislocation (ред. Юлия Немировская, Анна Крушельницкая).
Еще один аспект: деколониальная русскоязычная литература, скажем проект шведского ПЕН клуба «Не-русская Россия», в котором публиковались тексты авторов разных народов, языки которых подвергались давлению в советское время, вплоть до растворения и замещения русским. Сегодня эти авторы рассказывают о своих проблемах владения коренным языком – рассказывают на русском. В шведском проекте эти высказывания были опубликованы на оригинальном русском, шведском и английском, и мне была оказана честь переводить некоторые эссе.
Получается, современная русская литература живет не только в российском пространстве и русскоязычных пределах, но выходит за их рамки, в различных смыслах – географически (самое очевидное), но не только, — и этнически, и, как и в прошлые эпохи, пространством языка, оригинала и перевода.
Есть ли перспективы у проекта «глобальной литературы на русском языке» за пределами РФ? Снова хотелось бы прояснить терминологию. Что есть «глобальная литература на русском языке»? Тексты, создаваемые авторами, живущими вне России? Тексты, публикуемые в журналах и книгах вне России? Тексты, опубликованные редакторами, живущими вне России?
За вопросом, что называть «глобальной литературой», возникает вопрос, стоит ли называть ее «проектом»? Принадлежали ли, скажем, Бродский, Довлатов, Лосев к «проекту глобальной литературы на русском языке»? Вот бы, наверно, удивились, если бы им сказали, что принадлежали.
Литература на русском языке есть и будет. Глядя на тексты на русском языке, создаваемые и издаваемые за пределами России, нам, видимо, важнее понять, чего нет. Нет государственного проекта. Это фактически личное дело.
Если в современной диаспоре и есть российские государственные программы поддержки русскоязычных литературных проектов за рубежом, то такие программы осуществляются в рамках Россотрудничества, чур меня, чур.
Как живут коммерческие печатные издания, не знаю, где-то, вероятно, получают средства, гранты, спонсоров.
На Западе (включая Юг и Восток) нет государственных премий для русскоязычной литературы. То есть, есть некоторые программы поддержки этнических авторов, и русских, возможно, в ряду других наций, но не в формате «поэт больше, чем поэт». Есть некоторое количество кафедр русистики, работающих скорее на обучение переводу для практических нужд или чтобы студенты набрали немного дополнительных баллов. Или есть кафедры славистики, где славистика включает и украинский, и сербский, и чешский, и другие языки и литературы.
В целом, за очень-очень редкими исключениями нет возможности заниматься только написанием стихов на русском языке. Нужны смежные и другие профессии, по вкусу. И это нормально.
В конце концов, и в метрополии таких поэтов не много.
На вопрос о роли литературного критика, литературного журнала, издательства можно ответить, что сейчас роль независимого критика, журнала, издательства, премии, литературного фестиваля возрастает. Или, скорее, падает роль российских государственных институций. Но ведь не всех. Репутация – важнейшая вещь. Это относится и к премиям, и к изданиям, и к книжным ярмаркам и фестивалям. В некоторых российских проектах получается не замазаться, или по крайней мере не складывать в одну бочку мед с дерьмом, и читатели, и авторы с этим соглашаются. Долго ли так продолжится? Ситуация кажется неустойчивой, но изменения связаны с самыми разными и серьезными глобальными переменами, так что предсказывать, во что она разрешится, я не возьмусь.
Что изменилось, что не изменилось в литературном пространстве РФ для меня лично? Я не была в «институциях», так что их перекраска меня не задела. В том, что я делаю, что мы в «Артикуляции» делаем, ничего особенно не меняется. Пишу, публикую, издаем. Пишу о том, что меня интересует. Публикую, кого считаю интересным опубликовать, независимо от места жительства. Обсуждаем, дискутируем на онлайн встречах. На российскую государственную поддержку как не рассчитывали, так не рассчитываем. Лояльность как не проявляли, так и не проявляем и не будем проявлять. Как-то корректировать свою позицию в связи с давлением российской цензуры не собирались и не будем. Отдельное восхищение Анной Голубковой. Она, еще оставаясь в России, допускала публикации, которые могли бы вызвать гнев запретителей.
Если что-то для меня изменилось, то только с практической стороны: стало труднее заказать книгу, изданную в России. Это возможно, если только она вышла в электронном виде на Литресе. У них каким-то образом проходят платежи по западным картам. Если нет, то можно лишь надеяться, что автор пришлет пдф. Остаются журнальные публикации, они онлайн. Но я в последнее время читала немного: ROAR, «Дактиль», «Точка Зрения», «Интерпоэзия», «Тайные тропы» …
Изменение, произошедшее, наверно, не со мной одной, – психологическое состояние: редкие выныривания из депрессии, постоянная усталость и неспособность сосредоточиться, когда читаешь каждый день в первую очередь новости, много новостей, и они выбивают еще дальше из состояния, в котором можно думать и писать. Все же читаю – собственно русскоязычного меньше, просто потому что интересно читать современные книжки на английском, и потому, что все медленнее делаю и сил немного.
Андрей Грицман (Нью-Йорк), поэт, эссеист, редактор международного журнала «Интерпоэзия»
В этом году (в декабре; да и в любом другом месяце) надо бы подводить не итоги года, а итоги эпохи. Эпоха, в которою мы жили и которую знаем, прошла. Хотим мы это осознавать или нет. На самом деле не хотим. Потому что в той, прошедшей, эпохе мы привыкли — и к хорошему, и к плохому. Недавно я участвовал в конференции, круглом столе на тему – «На обломках русской литературы», кажется, так называлось. Никаких обломков нет. Это просто начало другой эпохи, или фазы русской культуры и литературы.
Был монополярный мир (Москва, литературный процесс метрополии и т. п.), а все остальное – диаспора, зарубежье, ближнее и дальнее. Все это быстро уходит в прошлое, произошла децентрализация литературы. Интернет, конечно, размыл границы литературных территорий. Но все равно из-за рубежа все же ездили «на поклон» в Москву (по редакциям, выступить в популярном клубе, «засветиться»). За рубежом, конечно, давно были Бродский, русский Нью-Йорк, Довлатов, Саша Соколов, Алексей Цветков, Бахыт Кенжеев и так далее. Но все же все время литературное общество ориентировалось на то, чьи именно книги стоят в московских книжных магазинах на полках. Странно представить, но теперь этого нет и быть не может. Диктат «Журнального зала» («толстый русский журнал как эстетический феномен»!) значительно снизился. По внешним, но и по внутренним причинам. Это и нарастание цензуры, постарение, уход или отъезд за рубеж тех литераторов, которые поддерживали этот фантом печатных толстых журналов (в основном, пылящихся на полках пустеющих редакций).
Очень жаль, но за последние годы ушли в архив «Октябрь», «Арион», «Вестник Европы», «Зарубежные записки», «Новая Юность», Homo Legens и ряд других. Этот большой пласт культуры, слава Богу, если сохраняются архивы.
Так называемый литературный процесс в РФ продолжается, но все меньше имеет отношения к реальному состоянию дел в русскоязычной литературе. Пресловутая «красная черта» компромисса с властью перейдена. В нашем журнале «Интерпоэзия», и не только в нашем, в каждом номере заблокированы две-три-четыре публикации. При этом речь идет не о социально-политических статьях, а стихах! Были уже и предупреждения журналу «откуда надо» по доносам от коллег-литераторов!
Я не говорю о том, что в России прекратилась здоровая литературная жизнь. Как общественное явление – да, прекратилась, но при этом активно работают многие замечательные авторы. Слава Богу, выход на публикации (за пределами РФ) есть. Во всяком случае, пока. Хотя связь все труднее из-за блокировки фейсбука, ютуба и бог знает чего еще.
Во всем этом винят войну и правящую администрацию РФ. Я не социолог и не политолог, но думаю, что патология гораздо глубже: и война, и администрация – не только причина происходящего, а и его последствия. Причина происходящего — болезнь культуры и, в какой-то степени, языка. А это имеет прямое отношение к будущему так называемого литературного процесса.
Отвечая на прямой вопрос «Нового Иерусалимского журнала» – нет «другой русской литературы». Есть одна — русскоязычная, проявляющаяся по-разному в зависимости от опыта жизни, территории, ситуации. Как есть англоязычная: американская, британская, австралийская, «американская с акцентом» и т. п. И многолетняя богатая история русской поэзии в Израиле, со своими понятиями, метафорами и даже в какой-то степени языком – тому пример: Семен Гринберг, Игорь Бяльский, Шимон Крайтман, Феликс Чечик, Рафаэль Шустерович, Лена Берсон, Александр Бараш и многие другие поэты, блестящие прозаики, классики израильской русской литературы: Алекс Тарн, Михаил Юдсон, Яков Шехтер, Дина Рубина, Леонид Левинзон и другие. Новый приток талантливых литераторов из «метрополии» открывает новую страницу русской израильской литературы. Чрезвычайно важно, что появился «Новый Иерусалимский журнал», который и разрабатывает эту новую золотую жилу.
Перспективы у проекта «глобальной литературы на русском языке» есть. Произошла децентрализация. Вес тяжести литпроцесса переместился, он больше не приходится на толстые журналы Журнального зала и нескольких московских и питерских модных клубов. Появились новые интернетные журналы, созданные, в основном, более молодым поколением, многие за рубежом, и теплые и горячие точки встреч литераторов: Иерусалим – Тель-Авив – Нью-Йорк – Бельгия – Париж и т. д.
За пределами нашего интереса, понятное дело, остаются очевидные провластные авторы: Прилепин, Караулов, Артис, Ватутина, Долгарева («блеснув на московской нон-фикшн, она сразу в ЛНР к почитателям») и другие известные фигуры: Кублановский, Олеся Николаева или, например, новый лауреат первой премии «Большой книги» Алексей Варламов. Вот что он говорил несколько лет назад на круглом столе «Дружбы народов»: «глобализация проваливается, космополитизм отступает, и культура неизбежно становится более национальной, отечественной, почвенной. Подняться над схваткой ей не удастся».
Именно в этом и заключается проблема. То есть, по «их» мнению, культура должна следовать за линией правящей партии и отказываться от своего естественного происхождения – мировой («тоска по мировой культуре»), европейской культуры и литературы, с чего она и начиналась.
И «нам» с «ними» не по пути, у нас свои дела.
Посмотрел список наиболее заметных книг последнего времени, составленный «Медузой»: в основном «антиутопия», социальный «хоррор», прямо по следам классиков жанра — Пелевина, Сорокина, Глуховского. Но реальная сегодняшняя жизнь страшнее талантливых фантазий и предсказаний. Предсказывать нечего – все уже происходит. Наступает время тюремно-лагерной прозы. «Лейтенантская проза» послевоенного времени (ВОВ) вряд ли повторится, не тот контингент воюет.
Что касается поэзии – возникает чувство, что писать по-прежнему тоже нельзя, как бы талантливо сочинено ни было. Реальность происходящего выходит за рамки русской просодии. См. мое недавнее эссе в «Новом журнале» и в ROAR (https://magazines.gorky.media/nj/2024/317/otkaz-ot-stihov.html).
Вот людей только жаль: и тех, кто должен жить и творить там, под напряжением и под опасностью, и тех, кому пришлось бросить привычную родную жизнь, устраиваться на новом месте и выстраивать там свой новый процесс. Это очень тяжело и благородно.
А лично мне, сознательно решившему уехать в Америку более полувека назад (в США 44 года), совершенно все равно, где говорить и писать по-русски, где общаться по-русски с друзьями и родными. И издавать международный журнал русской поэзии.
Григорий Аросев (Германия), поэт, прозаик, главред литературного журнала «Берлин. Берега»
Тема «другой» русскоязычной литературы имеет право на существование, однако следует различать аспекты сиюминутный и ретроспективный. Сиюминутно внутрироссийское и эмигрантское сообщества, включая их литературно-читательские части, разобщены как никогда ранее за последние полвека, но ещё через сто лет, когда всё снова неоднократно переменится, эта граница сотрётся, как произошло с восприятием текстов 1920–1930-х. Мы, конечно, помним, что Набоков писал в эмиграции, а Булгаков — изнутри, но однозначной разделительной линии по географии создания текста не проводим. Великие книги писались везде, и в СССР, и в эмиграции, но и бездарные-бесталанные создавались везде. Так будет и впредь.
Разница в том, что технически мы сейчас оснащены куда лучше, чем сто лет назад, и это и помогает (издать книгу может любой, и это стоит совершенно вменяемые деньги), и мешает (литературы стало слишком много, и ориентироваться в ней тоже тяжело, особенно неподготовленному читателю). Но это свойственно буквально всем культурам и всем языкам. У технического прогресса есть и одно неоспоримое очевидное преимущество: доступность текстов.
Возвращаясь же к сиюминутности. Конечно, в свободном пространстве прямо сейчас, на наших глазах, оформилась (да, не «оформляется», а уже появилась) другая литература на русском языке: свободная, неподцензурная, яркая. Собственно, тексты в ней именно такие, пусть какая-то их часть и вызывает споры (но так ведь и должно быть). На мой взгляд, прямо сейчас, в конце 2024 и начале 2025 годов, очень важно прямоговорение, даже если и через художественные образы: писать так, чтобы была понятна тема, настрой и посыл, пусть текст и будет сплошной метафорой без упоминания слов «война» или «Украина». Рана сопричастности не заживает, заживёт нескоро, и очень важно читать об этом стихи и прозу.
Другой, хотя не менее важный вопрос: писать и читать нужно не только о войне, как минимум чтобы не свихнуться, ибо риски этого неиллюзорные. Поэтому-то эмигрантская русскоязычная литература, ныне (особенно в прозаической части) существующая преимущественно в антивоенной парадигме, вскоре перерастёт в полноценную: ибо литераторам и самим надо будет продолжать писать обо всём, пусть война, её последствия и итоги всё равно станут вечным контекстом — ровно таким же, каким стала Вторая мировая для литературы после 1945 года. Даже в мирных текстах 1960–70-х и далее нет-нет да мелькнёт отзвук беды.
Но пока речь шла только о писателях. У читателей, особенно оставшихся по «ту» сторону, всё вроде как проще, но с другой стороны и сложнее: не так-то и легко существовать в условиях, когда приобретение и прочтение книги, написанной и вышедшей на Западе (ужасно, что мы снова возвращаемся к этим терминам!), приравнивается как минимум к гражданскому поступку. Это непросто. Но по крайней мере в электронном виде это доступно всем желающим и почти полностью безопасно. Это облегчает ситуацию.
В 2015 году я в Берлине вместе с друзьями-единомышленниками начал издавать литературный журнал «Берлин. Берега». Это был (и остаётся) журнал преимущественно, хотя и не без исключений, для живущих в Германии русскоязычных авторов. Публиковались также переводы с немецкого, статьи о связях русской и немецкой литературы, а также рецензии на книги, авторством или темой связанные с Германией. «Берлин. Берега» выходит дважды в год, талантливых людей много, сюжетов и материала хватало. Но, как мне кажется, сейчас пришла пора выйти за пределы любимой мною Германии. Планы есть, что получится, увидим.
Литературные институции — журналы, магазины, премии, издательства — не поддерживающие военное безумие, учинённое и продолжаемое Кремлём в Украине, должны жить и работать (модальность «должны» связана с их необходимостью, а не прямым долгом перед кем-то), чтобы то самое литературное пространство не сужалось, а расширялось. Хочется верить, что читатели это будут поддерживать чтением, покупками и вниманием.
Литературное пространство в РФ полностью изменилось: оно перестало быть территорией свободы. Я с громадным уважением отношусь к тем немногим личностям, которые, не уезжая из России, не хранят молчание в какой бы то ни было форме. К молчащим я равнодушен, в первую очередь потому что я не знаю наверняка, кто из них по какой причине молчит. Но те, кто в том или ином виде присягнул Кремлю, вызывают во мне чувства омерзения и презрения. Странно, что они не понимают, что эта печать останется на них навсегда (а она останется). Лично же для меня в РФ всё закончилось. Я далеко не самый востребованный автор в России, но и мне уже довелось отклонить несколько предложений оттуда: по моей воле и под моей фамилией там больше не выйдет ничего. Едва ли от этого кто-то заплакал или заплачет в будущем. Но мне важнее собственное ощущение правоты.
Юлия Подлубнова (Латвия), поэт, литературный критик
1. Я бы не хотела сосредоточиваться на пропасти между уехавшими и оставшимися, потому что разрыв случился не вчера и он не такой, чтобы его края совсем не сходились друг с другом, однако не могу не заметить, что в 2024 году окончательно оформились два момента, маркирующие эту пропасть. Во-первых, принятые в РФ законы, ограждающие от так называемой экстремистской информации, сделали невозможным для оставшихся любое свободное публичное высказывание ‒ и не только на политические темы. Пока немало хороших авторов, публикующихся в РФ, лавирует, поднимает острые темы и не попадает под действие законов. Но ситуация динамично развивается, и я, например, уже вижу тех, кто уходит во внутреннюю эмиграцию, добровольно самоцензурируется или пытается наладить диалог с не самыми людоедскими лоялистами. Уехавшие же остаются свободными в выборе тем, изданий и коммуникаций. Во-вторых, структуры тамиздата в 2024 году расширились: появились новые издательства, новые литературные проекты, возобновил работу журнал «Воздух» и т. д. Стало быть, пространства для свободной речи стало больше. Причем я бы не говорила о нем только как о пространстве для уехавших, но по факту оно все больше оформляется именно как таковое.
В любом случае, главными словами 2024 года стали «угроза» и «страх». И те ощущения, которые порождают угрозы и страхи, не могут не влиять на русскоязычную литературу, где бы авторы физически ни находились и о чем бы ни писали.
2. В итогах года проще всего говорить про прозу. Здесь я предложу следующий список.
· Проза года в номинации «Большая литература. Оставшиеся» — «Русская нарезка» Павла Кушнира (тот случай, когда автор лучше бы уехал).
· Беллетристика. Оставшиеся — «Тоннель» Яны Вагнер.
· Большая литература. Уехавшие — «Фокус» Марии Степановой.
· Беллетристика. Тамиздат — «Наше сердце бьется за всех» Константина Зарубина и «Новая реальность» Константина Куприянова (получились давно уехавшие).
· Дебют года — сборник рассказов «Скоро Москва» Анны Шипиловой, но стоит обратить внимание и на сборник «Чужая сторона» Ольги Харитоновой.
· Автофикшен. Оставшиеся — «Март, октябрь, Мальва» Любы Макаревской.
· Автофикшен. Уехавшие — «Дневник конца света» Натальи Ключаревой.
· Янг адалт и нью адалт — «Раз мальчишка, два мальчишка», «Под рекой» Аси Демишкевич.
«Русская нарезка» и «Фокус» — модернистская проза, учитывающая практики постмодерна. Она фиксирует современность (время войны) изнутри: ее многомерные ощущения, ее взаимодействия с внутренним миром, ее отражения в работе сознания. Этот опыт ‒ внутренней жизни ‒ самый ценный, намного важнее внешней динамики, которую обычно предлагают тексты, сосредоточенные на сюжете.
С этих позиций оцениваю и автодокументальную прозу (то есть автофикшен), которая на третий год войны просто не имеет права молчать о ней. Потому я выбрала те тексты, где не молчат. А иногда кричат и плачут.
На месте антиутопий Зарубина и Куприянова мог быть и нашумевший хоррор «Мышь» Ивана Филиппова. Имена и тексты в конкретном случае не так важны. Скорее, стоит говорить про закономерное возвращение антиутопий в фокус литературного внимания. Когда-то, на рубеже 2010-х гг., этот жанр, востребованный в 2000-е, потеснила историческая проза (ретротопический тренд), но сейчас, на этапе новой катастрофы, жанр вернулся, оброс элементами хоррора и прогнозами на ближайшее будущее. То есть инструментализировал страхи и угрозы и как бы попытался ответить на вопрос: «Как быть, если случится самое страшное? Нет, вы не поняли, самое страшное!»
«Тоннель», «Скоро Москва», «Чужая сторона», книги Аси Демишкевич объединяет соприкосновение с российской хтонью. Причем хтонь здесь ‒ не нечто фантастическое, фольклорное или постфольклорное (хотя писательницы вполне умело внедряют фантастические допущения в свою прозу), а именно российская реальность, которая фантастична и абсурдна сама по себе и в своем абсурде доходит до пауков в банке и кровавой трясины. Вот это погружение на дно российской жизни, ее реалии и ритуалы, обычаи и привычки, беспросветные будни, этнография и антропология катастрофы зафиксированы и отчасти отрефлексированы в этих книгах.
3. Поэзии в этом году я читала много, так что итоговый список получился бы ни о чем не говорящим ‒ просто перечень имен и названий. Поэтому лишь ‒ некоторые наблюдения над прочитанным.
Если проза уже соприкоснулась с мясом и болью современности, то в поэзии еще возможен временной лаг, когда сборники выходят с текстами, написанными до 2022 года, вполне обособленными по своему настроению, или с текстами, написанными после, но не проблематизирующими происходящее, потому что политическое измерение не встроено в авторскую оптику, ‒ и здесь не имеет значение, кто уехал, а кто остался. Важнее говорить об модуляциях голоса, интонациях, которые программирует время, подчас говорящее поверх автора, но это тоже не обязательно. Среди ключевых поэтических книг такого рода ‒ «Дорогой человек» Инны Краснопер, «Геката» Анны Глазовой, «Там же, ближе к ночи» Юлии Кокошко, «Подбородки нолей, из которых построены пчелиные ульи» Андрея Сен-Сенькова.
Тексты, написанные до 2022 года, однако, могут открывать пространство предчувствий войны, как в сборнике «Мертвые не поют» Лизы Смирновой. При этом взгляд в прошлое из катастрофического настоящего зачастую предполагает пересборку ранее написанного, как в случае книги «Лист перед травой. Избранные стихи 1989–2023 гг.» Сергея Муштатова, или пересмотр картины мира, когда акценты переносятся именно на предчувствия катастрофы, как в «Не трогай нас» Михаила Айзенберга и в Lost and found Веры Полозковой, или даже перестройку идентичности, как в сборнике «За моих любимых» Елены Фанайловой, где авторка принципиально определяет себя внутри мира Восточной Европы, ‒ и этот сборник являет только часть процесса перестройки, поскольку в нем нет компендиума текстов, написанных в последние несколько лет.
Переопределение себя как автора возможно не только в географических и культурных координатах, как мы видим в сборнике «Ниневия» Марии Галиной, но и в языковых, потому что этот сборник вышел и на русском языке, и на украинском (в серии «Тонкие линии») и с отличающимся содержанием. Очевидно, что украинская версия имеет большее значение для авторки, сделавшей свой этический выбор и пытающейся пересмотреть ту часть прошлого, которая, скажем так, к этому выбору не подталкивала.
При этом оказывается возможна и пересборка иного рода, когда война и цензура лишают свободного голоса и перекрывают ряд тем, которые авторы поднимали ранее. Таким опытом внутренней эмиграции наполнена новая книга Оксаны Васякиной «О чем я думаю». Я полагаю, многие ждали эту книгу, и она оказалась далека от написанного авторкой ранее.
Поэтические реакции на войну, диктатуру и новую реальность, в которой обнаруживают себя как уехавшие, так и оставшиеся, довольно разнообразны ‒ стоит посмотреть на сборники «В самое вот самое сюда» Александра Скидана, «Слова прощения» Влады Баронец, «В стране победившего сюрреализма» Оли Скорлупкиной, а также на «Линию бегства» Марии Малиновской, сборник, представивший документальные нарративы эпохи вторжения, «Положение» Влада Гагина, фиксирующий экзистенциальный опыт эмиграции через оптику левого поэта, и др. Стоит обратить внимание, как формируют пространство аффектов сборники «Близость» Дениса Ларионова и ‒ отчасти ‒ «Для более прикольного мира» Марии Земляновой и Cross-waves Софии Амировой, кстати, обе книги дебютные.
О дебютных сборниках, наверное, имеет смысл сказать отдельно ‒ их было немало в этом году. Из прочитанного запомнились «Предзвучие/отзвук» Натальи Игнатьевой, «Хрусталики глаз звенят» Дарии Солдо, «my blue song и другие песни» Владимира Кошелева, «Внутри пирамиды» Артемия Старикова, «Форма для горя» Дениса Сорокотягина. Особенно выделю «(не)магчымасць пісьма/невозможность письма» Марины Хоббель, куда вошли тексты на русском и беларуском языках (с вкраплениями норвежского и английского). Это не дебютный сборник молодой авторки, но дебют взрослого человека, и, как заметила Мария Мартысевич, экопоэзия и фемписьмо Хоббель в контекстах беларуской поэзии стали несомненным открытием.
Самая недооцененная книга 2024 года, без сомнения, «У раны есть имя» Юрия Тарнавского, украинского поэта, живущего в Нью-Йорке, переведенная и выпущенная Дмитрием Кузьминым, ‒ то наследие украинской поэзии, которое требует научной и культурной рефлексии.
В качестве поэтического текста, как бы закрывающего этот год, я вижу «Чтобы быть здесь необходим рой форм» Галины Рымбу (первоначальное название ‒ «О революции»). Он соединил политическое и аффективное, обозначив болевые точки нашего времени, нашего положения в нем и нашего состояния.
«мы — те, кто разбивает черепа друг другу»
в глубоком чтении эволюции
<…>
и солнце в заусенцах предгорий,
которые когда-то были морским дном
острый страх утра и то, что осталось от нас, на будущем дне
без ощущений
«мы — те, кто царапали землю»,
«простые цветы…»