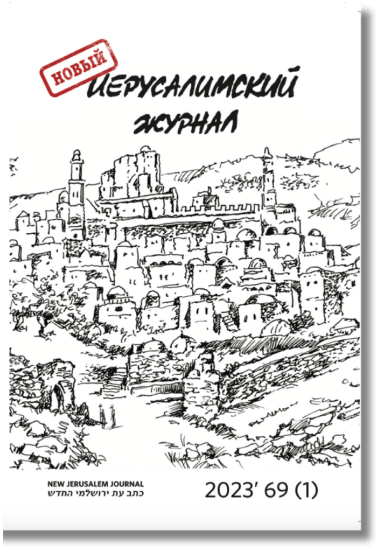Чей там дом
Смотри, это мишка, лет сто ему, вроде бы,
В жилетке из нашей портьеры на Ленина
И нет у него ни изгнанья, ни родины,
Чернильные пятна, подтеки варенья ли —
Вот все, что оставили три поколения.
Он смотрит надколотым глазом, ему-то что,
Пока ты трясешься над описью прежнего,
Не то чтобы счастья, но вряд ли имущества,
Вот видишь, как мы обезвре… обезбрежены,
Как внутренний берег относит от внешнего.
Ты все что-то хочешь сказать в оправдание,
Нет, не в оправданье, скорей, в объяснение.
Как там у Довлатова: «Это же дали, да?»,
И мы в этих далях расселись растерянно,
Свалившие с милого страшного севера.
Но (как это будет по-русски?) безмолвствуешь
И ждешь, что «наплакался», скажут, «намучился».
Ты даже примерился наспех к погосту их,
Но тут у них домики, тут у них уточки,
И раннее утро, и рваные улочки…
Опять покупаешь посуду и скатерти,
Бежишь за собакой, несущейся с тапочком,
Часами бессмысленно чатишься: «Как ты там».
Ведь мы же уехали? Но недостаточно.
Ведь мы уже умерли? Неокончательно.
Паром исходят гнилые баржи,
Горечь течет по древесным венам.
Если я буду жива, давай же
Встретимся!
Здесь?
Да неважно, где нам.
Снег у подъезда лежит подковой,
Как же мы ждали весну когда-то!
Скоро и там… Ничего нескоро.
Встретимся?
Просто скажи мне дату.
Солнца вчера еще было мало,
Встали с утра, и уже видна нам
Серая зелень, изгиб канала,
Выцветший борт, «Катарина-Анна».
Вздулась на ребрах ее короста,
Анны-потрепанной-Катарины.
Смерть из-под жизни, такой короткой,
Видно, как ноги из-под перины.
Плохо, что так далеко, что «с богом!»
Скажешь — и сразу задышит рана.
Жмется к холодному камню боком,
Мокрой щекой «Катарина-Анна».
Крик мне удалили вместе с гландами
Без наркоза, так тогда нам делали.
Больно, дети? Больно. Ой да ладно вам.
Если б я лежала под завалами,
Тоже не смогла б кричать, наверное.
Волноваха, Марьинка, Авдеевка.
Эти нестерпимые названия.
Их перемещенье внутривенное.
Тише, дети! Были очень тихо мы,
Чем бы мы ни мучились еще потом:
Приступами голода тактильного,
Признаками близящихся проводов,
Пониманьем, недопониманием;
Мы друг к другу прикасались шепотом —
Вкус цветастых наволочек пробуя
Где-нибудь в Беляево, в Измайлово.
Пахнет кровь железными качелями,
Краской, табаком, почтовым ящиком,
Униженьем (как же так, зачем они?),
Изумленьем (неужели это мы?),
Надави здесь на кирпич, на камень ли —
Выступит наружу настоящая,
Липкая, пролитая убитыми,
Во саду ли, в огороде, в камере.
Сколько ни пиши о том, как маленьким
Ехал к морю, думая, что нет его,
Засыпая на коленях маминых;
Или, например, о том, как варежки
Промокали так, что просто боже мой,
Никакое слово не последнее,
Даже то, с которым умираешь ты,
Недоговоренным, неразборчивым.
Потому что следом встанут Буча и
Запорожье, Мариуполь, М
А где наши гости? Они улетели обратно. Куда
улетели? Сказали, к себе, на Арбат, но
Они же живут в Теплом стане? Живут в Теплом стане.
Сказали, так легче. Сказали, там лучше не станет,
И если война, то, конечно, и в рашке война,
Но грязных тарелок оставлена полная раковина,
И надо на дачу — соседка-то смотрит за кошками? И
на Востряковское, господи, на Востряковское.
А где же друзья наши? Тапочки вот и носки вот.
Вернулись домой. Но куда? В обесточенный Киев.
Сказали, что дома — и стены, ну, в общем, лекарство.
Уже долетели? Нет связи, нет связи пока что.
А как мы на «Соколе»… мы на Червоноармiйской…
Не смей вспоминать, в этом нет больше правды и смысла.
Нам больше нет места быть вместе и смелости плакать. Все
пеплом пошло, ну а то, что не пеплом, то прахом.
Все тише становится: где вы?
Да вот мы…
Да где же вы…
И снег ничему не помог первозданный рождественский.
Наш район, состоящий из боком стоящих хрущоб.
Две спрямленных тропы к остановке и третья — с балкона.
Нас давно уже нет, потому и болтаю такое.
Эта музыка — все.
Тополиная пыль и с портвейном бегущий гонец,
Предвкушение счастья, маравшее плечи побелкой.
Мы уже не увидимся, знаешь?
Я знаю, забей.
Как?
Слишком многого нет.
Кто свалил, кто безумен, кого сожрала нищета.
Бормотаньем депо стало то, что имело значенье.
Чей там дом — это твой или мой, я не вижу, ничей, нет?
Ничего. Ни черта.
Не спасет ни рябиновый куст, ни другие кусты,
Ни отечества дым — не такой ли вставал над печами?
Ну, куда «я вернусь», если некуда? Не отвечай мне.
Я не знаю, а ты
Анета П
Как весело катилась Анета П в Освенцим (Халат,
пропахший потом, и комнатные туфли), Зато,
никем не видим, смеялся брат, отец с ним; Улыбки
их не гасли и голоса не тухли.
Анета П (беретка, давно таких не носим,
Чулки простые всмятку на пятках у Анеты)
Глаза любимых с фото сцарапав твердым ногтем,
Везла в кармане правом под лепестком газеты.
Ах, как они неправы казались ей когда-то,
Как мучили Анету ее предназначеньем:
Замужеством, рожденьем детей (возьмут в солдаты,
Заставят нянчить кукол), но жизнь же не затем ей!
Она, Анета, знала, что будет жить иначе:
Ходить широким шагом в мужском пальто двубортном,
Не спать ночей над текстом и, если жизнь бедна чем,
То только не свободой, о, только не свободой.
Ни с голоса чужого, ни под чужую дудку, Она
жила, жалея своих покорных сверстниц, Пока
не стала старой, пока не взяли в дурку, Не
отобрали фото, не повезли в Освенцим.
Халат, берет, газета, чулки пока без дырок.
Анета П (спокойна, тепла и невредима)
Приехала в Освенцим и тут же стала дымом
Среди другого дыма.