
Книжный обзор в первом номере «Нового Иерусалимского журнала» тематически можно разделить на две равные части. Первые пять романов либо написаны израильскими авторами, либо посвящены жизни в Израиле. Остальные пять, разные по тематике и стилистике, объединены по одному неочевидному признаку: во всех этих книгах есть черты фантастики или сказки. В каждой из них случается нечто такое, чего в действительности пока что не происходит, а то и вовсе произойти не может.
В одном герой придумывает себе сына, тот обретает плоть и начинает функционировать как обычный подросток; еще там имеется говорящий сверчок, как в «Буратино», а к финалу мир утрачивает привычные свойства и начинает разваливаться на куски. В другом вследствие загадочного катаклизма у двух с половиной сотен человек появляются двойники. Героиней третьего является женщина-робот, а действие происходит в будущем, где детей с риском для жизни подвергают операции, улучшающей их интеллектуальные возможности. В фокусе четвертого – электронная игрушка, которую на самом деле еще не изобрели и неизвестно, изобретут ли вообще. В пятом женщина по ночам превращается в собаку.
Ничего удивительного в этой тенденции нет, к тому же она далеко не нова. Фантастика во всем многообразии своих жанров – от мистики до стимпанка и от фэнтэзи до альтернативной реальности – давно не помещается в собственные рамки и все чаще проникает в литературу «высокой полки». Сугубо реалистическая проза еще не превратилась в раритет, но прежнее лидирующее положение уже, пожалуй, утратила.
Если взглянуть на знаковые тексты последних десятилетий, то в значительной их части обнаружится хотя бы толика чего-то сверхъестественного. К нему обращались Жозе Сарамаго и Дж. М. Кутзее, Маргарет Этвуд и Дон Делилло, Иэн Макьюэн и Дэвид Митчелл, Мо Янь и Ханья Янагихара, Меер Шалев и Линор Горалик, Владимир Сорокин и Людмила Улицкая. На мой взгляд, у этой любопытной и показательной тенденции есть три основных причины.
Первая, пожалуй, радует: литература стала более свободной и изобретательной. Писатели с легкостью преодолевают жанровые границы и не стесняются наполнять свои повествования самыми отчаянными фантазиями. Двадцатый век продемонстрировал, что в художественной прозе можно делать все что угодно. Двадцать первый показывает, что можно не только все, но и чуточку больше.
Вторая скорее огорчает: экспансия чудес в литературу выглядит как реакция на снижение интереса к фикшн. Худлит теперь читают гораздо меньше, чем раньше, и он из кожи вон лезет, чтобы обратить на себя внимание, понравиться, отвоевать потребителя у научпопа, биографий знаменитостей и пособий по личностному росту. Писатель вынужден придумывать нечто экстраординарное, иначе его книгу вряд ли прочтут.
Третья не может не тревожить. Если рассматривать искусство, и в частности литературу, как прибор, измеряющий состояние окружающей среды, возникает ощущение, что сия среда докатилась до статуса черной пятницы. Антиутопии, романы-катастрофы, романы-предупреждения наперебой кричат о том, что в недалеком будущем нас ждет какой-нибудь кошмар, от экономического краха до экологического коллапса, от ядерной зимы до фатального столкновения с астероидом. Все чаще кажется, что по крайней мере одна из этих жутких картинок в конце концов станет реальностью.
А еще у описанного тренда есть обратная сторона. Чем больше фантастического проникает в литературу, тем меньше в ней остается упрямо консервативного, для многих невыносимо скучного, растерявшего остатки былого величия старого доброго реализма. Все реже можно встретить роман, в котором не происходит никаких чудес, в котором жизнь изображена такой, какая она на самом деле, как бы смешно ни звучала эта избитая фраза.
Однако чем меньше таких текстов, тем больше их ценит автор этих строк. Как безнадежный ретроград и отпетый традиционалист он по-прежнему предпочитает психологическую прозу без мистических выкрутасов. Если вы с ним заодно, читайте Давида Гроссмана, Рои Хена и Вику Ройтман. А если нет, к вашим услугам Салман Рушди, Эрве Ле Теллье, Рейчел Йодер и другие сочинители, чьей безудержной фантазии можно только позавидовать.
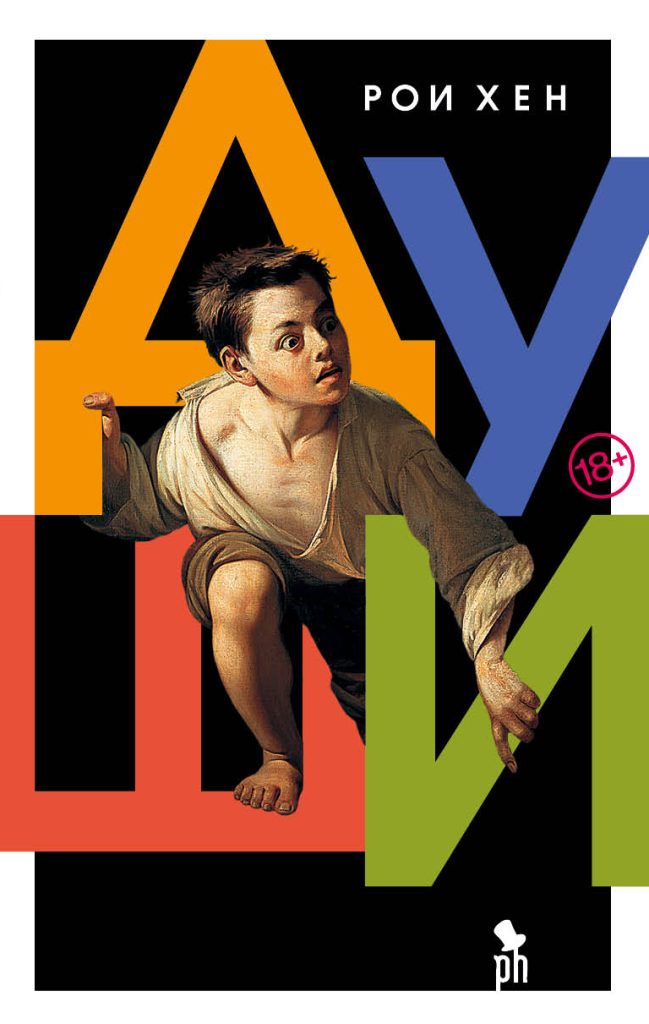
Мальчик, юноша, шлюха, блоха
Рои Хен «Души»
«Фантом пресс», 2021
Речь Посполитая, еврейское местечко Хорбица, начало XVII века. Девятилетний Гец и семилетняя Гитл во время празднования Пурима швыряют комья грязи в исполняющего роль Амана гоя Павла, и тот внезапно падает замертво. Венецианская республика, 1720 год. 17-летний Гедалья, сын ростовщика, влюбленный в прекрасную Гейле, объясняет девушке про реинкарнацию и пытается склонить ее к побегу, но его надежды идут прахом. 1856 год, Фес, Марокко. 29-летняя проститутка Джимуль (на иврите ее имя, как и все прочие здесь, начинается с гимель) принимает своего любовника Гавриэля, который обещает ей разойтись с женой, однако и этот сюжет заканчивается трагически. Дахау, Германия, 1942. Роль повествователя берет на себя блоха Голиаф (еще есть блоха Гретхен), но блошиный рассказ обрывается, едва начавшись.
Все эти истории рассказывает израильтянин Гриша, сорокалетний репатриант из Москвы. Никчемный безработный толстяк, он целыми днями лежит в ванне, курит и сочиняет роман о прошлых воплощениях своей пропащей души. Гришина мать Марина, смотрительница Тель-Авивского музея, увидев сыновьи записи, приходит в ужас: в завиральных фантазиях Гриши отразились подлинные события их жизни. Марина изо всех сил пытается вернуть Гришу к действительности, но мучительные отношения между матерью и сыном этому вовсе не способствуют. Вымышленная душа-близнец, ранее якобы воплощавшаяся в Гитл, Гейле, Джимуль и Голиафе, для него важнее настоящей матери. Можно ли преодолеть такое ужасное отчуждение? Как именно это сделать?
Если за пределами Израиля до выхода романа «Души» Рои Хен был практически неизвестен, то внутри страны его знал чуть ли не каждый носитель русского языка, интересующийся культурными процессами. Только раньше Хена воспринимали прежде всего как драматурга, переводчика и театрального деятеля, а теперь на первый план вышло его амплуа прозаика. «Души», второй роман писателя и первый, переведенный на русский, стали мощным прорывом Хена в большую литературу. Этому поспособствовали и неординарная структура книги, и живописные экскурсы в еврейскую историю, и удачный баланс комического с трагическим. Ко всему прочему Хен – человек сумасшедшего обаяния. Убедиться в этом можно, прочитав интервью с писателем, опубликованное в этом же номере журнала.
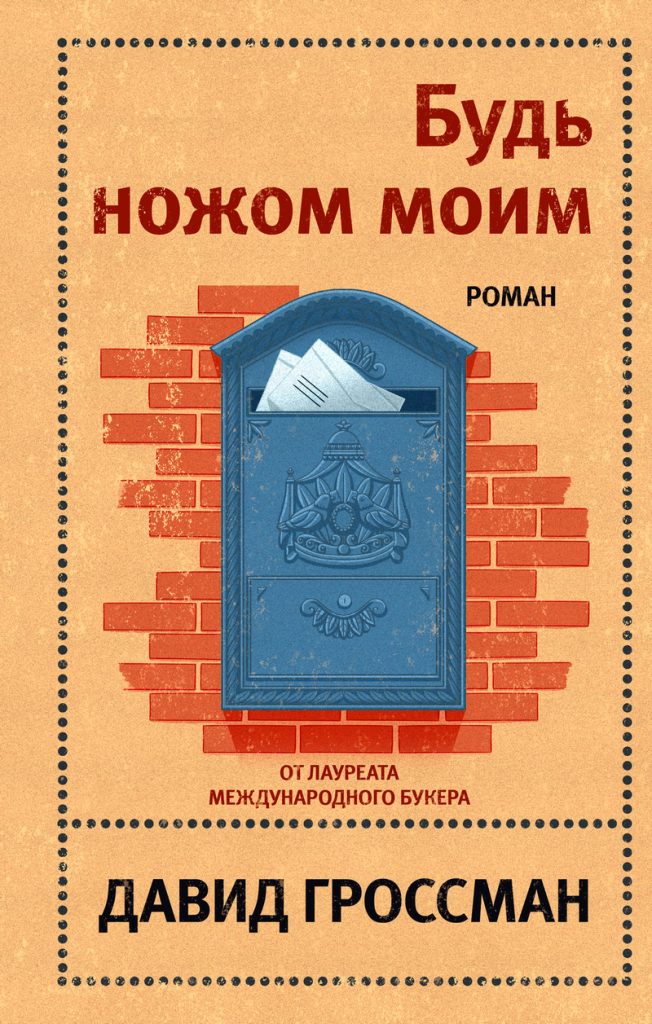
С последней прямотой
Давид Гроссман
«Будь ножом моим»
«Эксмо», 2021
По-русски роман Гроссмана вышел в позапрошлом году, в оригинале, на иврите, он был опубликован в 1998, а его действие развивается, похоже, где-то в 1970-е. Это не просто фактография: дело в том, что в наше время история, подобная той, что случилась у Яира с Мириам, была бы решительно невозможна. Действительно, попробуйте представить себе эпистолярный роман о современности. По-видимому, он бы состоял из реплик в чате, комментов в соцсетях, а также смайликов, эмодзи и прикольных гифок, которые без интернета не откроешь. У 33-летнего Яира и 40-летней Мириам всех этих возможностей нет, по телефону им разговаривать неудобно, поскольку оба не свободны, так что приходится писать письма. Очень длинные и очень странные.
Фабула устроена хитро. В первой половине книги Гроссман показывает читателю только послания Яира – истовые, порывистые, экспансивные, подчеркнуто литературные, предельно откровенные, исполненные бурных признаний и выспренних утверждений. Книготорговец Яир, человек логоцентричный (а также эгоцентричный, самолюбивый, авторитарный – вообще, не самый приятный субъект), цитирующий Флобера, Набокова и Кафку, абсолютно уверен в том, что Мириам – исключительная женщина, которая обязана сыграть ключевую роль в его жизни, и это притом, что видел он ее лишь однажды, издалека и в течение всего лишь получаса. Безудержный поток сознания Яира порой настолько самодостаточен, что Мариам начинает казаться выдумкой, призраком, воплощением фантазий героя, чья повседневная жизнь превратилась в гнетущую рутину.
На самом деле Мариам существует, и она вполне под стать Яиру: ее ответные письма представлены во втором разделе романа. Эти двое играют друг с другом в причудливую и томительную игру под названием «Давай же наконец встретимся, или Давай ни за что никогда не будем встречаться». Оба мечтают о реальном свидании и одновременно панически боятся того, что оно все испортит, что предположения, упования и ожидания, которыми под завязку набита их переписка, не выдержат испытания реальностью. Однако же, по меткому выражению самого Яира, не стесняющегося писать об интимном: «Сколько можно переливать сперму в чернильницу?» Гештальт должен быть завершен, но каким именно выйдет завершение, вам здесь, конечно же, никто не скажет.
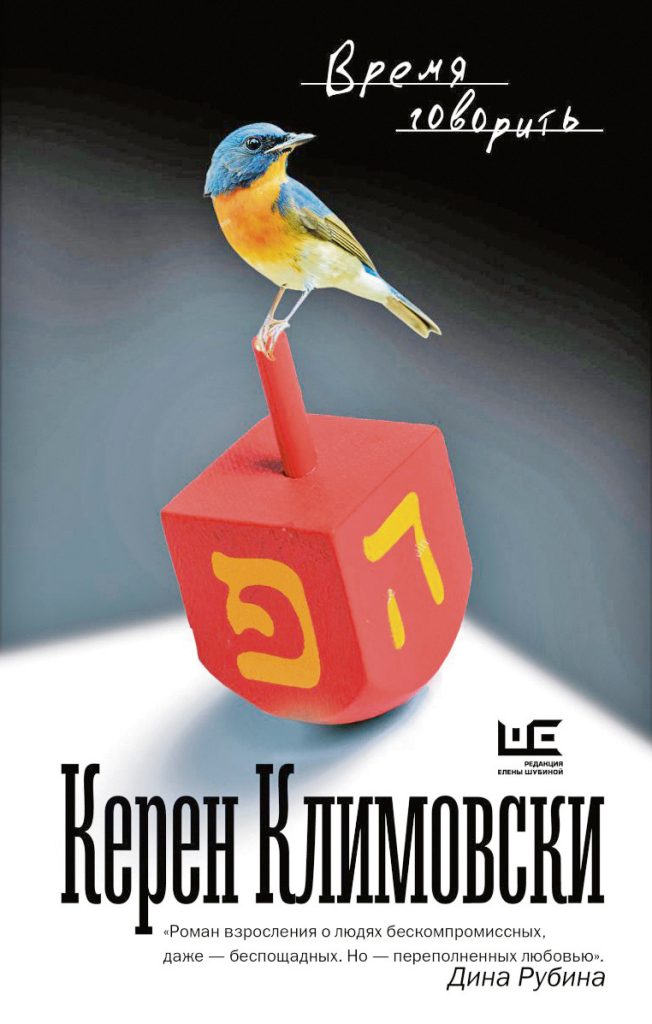
Неудобная девочка
Керен Климовски
«Время говорить»
АСТ, 2020
Иногда о писательской манере можно судить по одним лишь названиям текстов. Дебютный роман Керен Климовски назывался «Королева Англии кусала меня в нос», а еще у нее есть пьесы «Вы заслоняете мне океан» и «Вдова, коротышка, тюлень и другие». На таком ерническом фоне название второго романа писательницы «Время говорить» выглядит куда более серьезным. Так и есть, книга и впрямь серьезная. И то сказать, что может быть серьезней, чем первая дружба, первые месячные, первое разочарование, первая потеря, первая любовь и первый по-настоящему взрослый поступок?
Климовски родилась в Москве, сейчас она живет в шведском Мальме, но отрочество писательница провела в Израиле, так что материалом для книги ей послужил собственный опыт. По жанру «Время говорить» – типичный роман взросления, однако его героиня, как часто бывает в типичных романах взросления, человек совсем не типичный. Родители зачем-то дали ей французское имя Мишель, после чего стали называть на русский манер Мишкой, не то предопределив, не то предугадав мальчишеские замашки дочери. Мишка – существо дерзкое и норовистое, но при этом чуткое и ранимое, она неисправимая фантазерка и отчаянная идеалистка. Будучи из семьи новых репатриантов, среди сверстников-аборигенов Мишка чувствует себя чудачкой и чужачкой. В общем, классическая белая ворона. Ей тяжело с людьми, людям тяжело с ней, но больше всего ей тяжело с самой собой.
В романе Климовски есть ярко выраженная центральная сцена, в которой пересказывается старинная иудейская притча о четырех сыновьях. Второй сын именуется в ней нечестивым, он выведен отступником и наглецом и на первый взгляд кажется безоговорочно отрицательным персонажем. Однако у притчи имеется своеобразная интерпретация, согласно которой, именно нечестивец, нарушающий установленные правила и задающий неудобные вопросы, обладает для отца особенной ценностью. Мишка – точь-в-точь этот второй сын. Никому не верит на слово, подвергает сомнению очевидное, в любой ситуации проявляет упрямство, а порой и безрассудство.
По мере взросления героини Климовски замечательно изображает перемены в ее речи, интересах, вкусах, взглядах. И расстается с ней, словно с успешной сдавшей экзамен воспитанницей, когда уже можно не опасаться за ее дальнейшую судьбу.
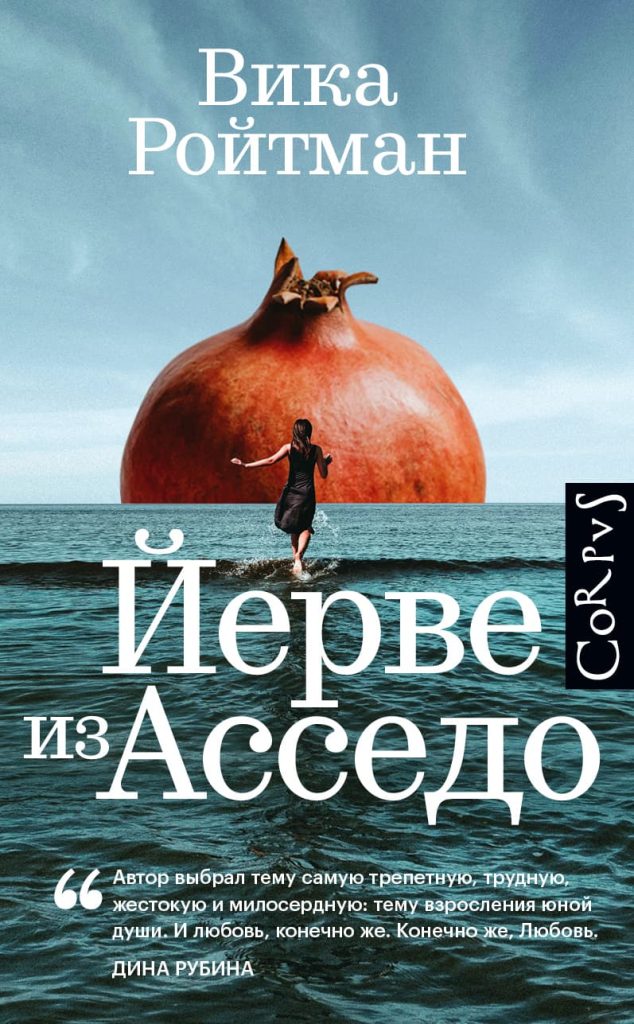
Неудобная девочка – 2
Вика Ройтман
«Йерве из Асседо»
Corpus, 2023
У книг Ройтман и Климовски множество сходств. Героини обеих – пубертатные девочки родом из бывшего СССР, не бог весть какие красавицы, обладающие пацанскими наклонностями, непростым характером и обостренным чувством справедливости. Они не переносят фальши, выбиваются из общей массы и раз за разом влипают в неприятные истории. В обоих романах взросления неуживчивые девицы переживают процесс становления личности, который не обходится без обескураживающих разочарований и болезненных потерь. В обеих книгах повествование ведется от первого лица, причем обе писательницы замечательно конструируют наивную, потешную и обаятельную речевую манеру своих персонажей.
У «Йерве из Асседо» от «Времени говорить» немало важных отличий. 15-летняя героиня писательницы из Хайфы, строптивая выдумщица с затейливым книжным прозвищем Комильфо, приезжает в Израиль в рамках образовательного проекта, и знакомство со страной во многом становится для нее определяющей жизненной вехой. Комильфо – одесситка, на ее натуру в немалой степени повлияла атмосфера родного города, и если вы еще не догадались, что означает загадочное название романа, попробуйте покрутить егона языке туда-сюда. Наконец, Комильфо не только заядлая любительница литературы, но и сама преизрядный писатель, а «Йерве из Асседо» – немножко роман в романе. Реальность здесь перемежается сочиненными героиней эскапистскими фэнтэзийными историями о благородных дюках и маркграфах. И там – а как же иначе! – бурлят нечеловеческие, леденящие душу страсти.
Забавно, что по мере развития действия реальность начинает подражать отроческим вымыслам. Комильфо с головой ныряет в сумасшедший водоворот конфликтов, из которого выбирается не только преодолевшей подростковую неуравновешенность, но и крепко потрепанной. Впрочем, это уже история о взрослых годах героини, которую автор выписывает слегка утомленным пунктиром. Мне же хочется вернуться к первой части романа – к его чарующим языковым несуразностям, к не-такой-как-все девочке, беспощадно честной перед собой и миром. А еще к разгневанному юноше Йерве, безрассудному дюку Кейзегалу и неистовому маркграфу Фриденсрайху фон Таузендвассеру, которые дают возможность убежать от неприглядной действительности в страну грез, принадлежащую только тебе одной.

Еврей поневоле
Даниэль Шпек
«Улица Яффо»
«Фантом пресс», 2022
«Улица Яффо» – сиквел романа «Piccolа Сицилия». В первой книге Шпека основная часть действия развивается в период Второй мировой войны в еврейском квартале Туниса «Маленькая Сицилия». Центральный герой немецкого писателя военный фотограф Мориц Райнке по воле случая оказывается в удивительном положении: после ухода Вермахта ему приходится выдать себя за еврея и взять в жены юную Ясмину, приемную дочь врача Абрахама Сарфати, забеременевшую от своего сводного брата Виктора. Семья Сарфати опекает Морица, потому что он чудом спас Ясмину и Виктора от нацистской расправы буквально в тот момент, когда они зачинали младенца. Рассказанная Шпеком история кажется совершенно фантастической, но писатель утверждает, что она основана на реальных событиях.
Второй роман продолжает историю Морица – в «Улице Яффо» она становится еще более невероятной. Перебравшись с семьей в Хайфу, немец пытается вести тихую жизнь добропорядочного еврея, но всезнающим израильским спецслужбам хорошо известно его прошлое. В итоге мирный человек, не имеющий ни малейшего желания ввязываться в какие бы то ни было политические коллизии, да еще и этнический немец превращается в израильского контрразведчика, в 1970-е годы в Германии внедряющегося в группу палестинских террористов.
Если сюжет «Улицы Яффо» все еще кажется вам недостаточно безумным, добавлю, что Мориц ко всему прочему усыновляет арабского мальчика, внебрачного сына одной из участниц террористической группировки, милой девушки, с которой у него возникли доверительные отношения.
Тут можно продолжить разговор о «высокой» и «низкой» полках в литературе, потому что оба романа Шпека – типичный для издательства «Фантом пресс» образец средней. Подобная проза обычно отличается простым слогом, удобной для читателя манерой изложения, перманентно подогреваемой интригой, эффектными кульминационными сценами, хлесткой афористичностью. При этом для масскульта «Piccolа Сицилия» и «Улица Яффо» все-таки недостаточно легковесны и чересчур содержательны.
Самое время заметить, что некоторые израильские читатели сочли прекраснодушные книги Шпека антисемитскими. Нейтральный взгляд немецкого беллетриста на арабо-израильский конфликт в духе «ребята, давайте жить дружно» для многих евреев категорически неприемлем.
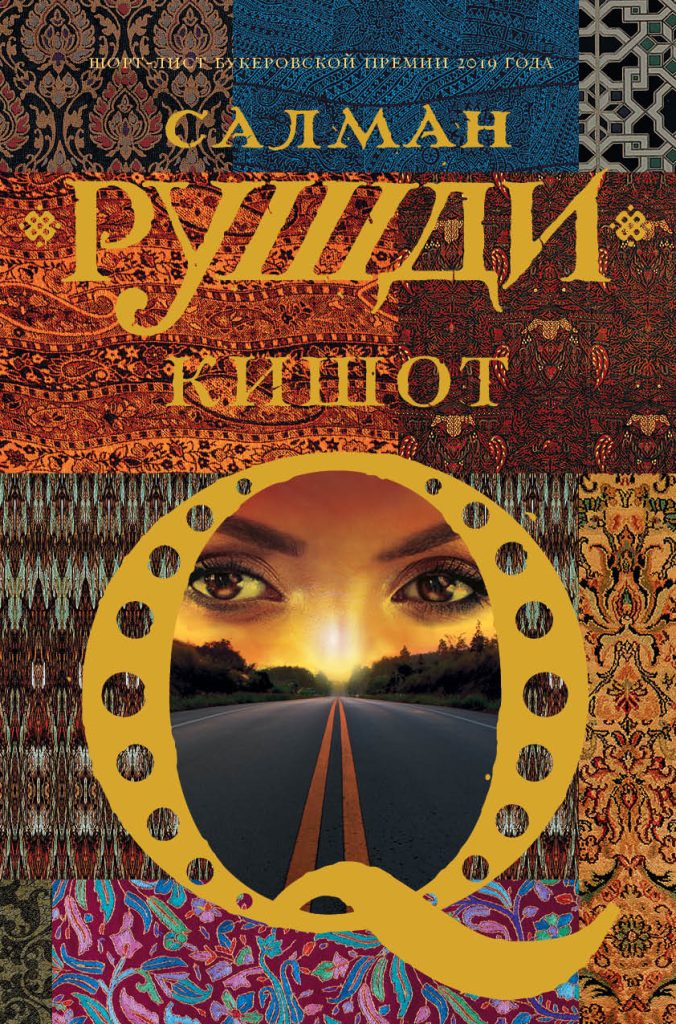
Все будет плохо
Салман Рушди
«Кишот»
Corpus, 2021
Вместо привычного нам Кихота у Рушди Кишот, с французским прононсом. Вместо рыцарских романов – сериалы, ток-шоу и прочая телевизионная дребедень, от которой у нынешнего чудака крыша поехала не хуже, чем у героя Сервантеса. Соответственно, место Дульсинеи занимает телезвезда Салма Р, в имени которой нетрудно прочесть имя самого Рушди. И не только в нем: другой персонаж, конфидент Салмы, однажды представляется журналистам как Конрад Чехов, и осведомленный читатель тут же вспоминает, что во времена фетвы Рушди скрывался под псевдонимом Джозеф Антон, составленном из имен его любимых писателей. Подобных пасхалок в «Кишоте» чуть ли не сотни. Это очень насыщенный текст с отсылками к Гесиоду и Овидию, Коллоди и Мелвиллу, Иствуду и Крузу. Это очень личный текст, из которого можно узнать о сложных отношениях Рушди с отцом или о том, как тяжело пришлось в Британии индийскому юноше из мусульманской семьи. Это очень прихотливый текст: Рушди придумал писателя средней руки Сэма Дюшана, тот придумал пожилого коммивояжера Кишота, который придумал себе сына Санчо; причем судьбы всех этих персонажей перекликаются не только между собой, но и с судьбой самого автора.
Сюжетных линий тоже великое множество. Основная – автомобильный вояж Кишота и Санчо по США, в котором они проходят семь Долин (Поиска, Любви, Знания, Непривязанности, Гармонии и Умиротворения, Изумления, Нищеты и Гибели), постепенно приближаясь к Кишотовой Возлюбленной. Воссоединение с ней должно стать концом не только романа, но и света вообще – Рушди не мелочится. По мере развития действия апокалипсические мотивы становятся доминирующими. Робкие надежды на то, что красота или любовь способны спасти мир от гибели, оказываются несостоятельными.
«Остановитесь! – кричит Автор, он знает, что произойдет в следующее мгновение, и он не властен изменить то, что уже написал: то, что случилось, невозможно предотвратить». Кроме конца света в «Кишоте» затронуты темы расизма, педофилии, наркомании, трампизма и пр. Как посмотришь на то, что представляет собой наш нынешний мир, так его вроде уже и не жалко. На восьмом десятке Рушди написал чуть ли не самую грустную из своих сказок. Хорошо, что покамест это всего лишь сказка, хотя события последних лет предлагают в этом усомниться.
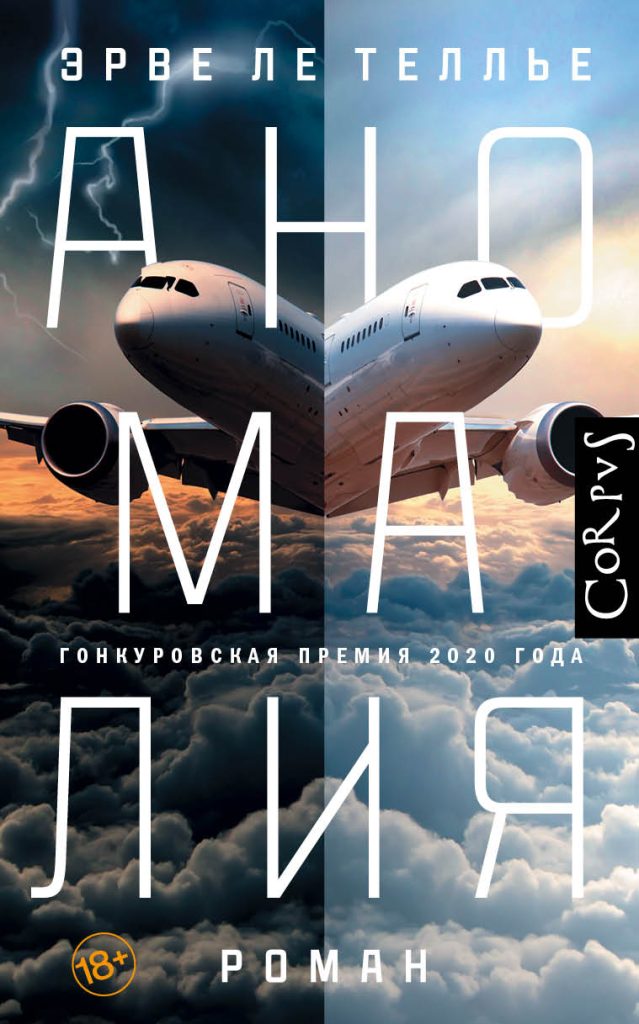
Доппельгангеры с неба
Эрве Ле Теллье
«Аномалия»
Corpus, 2021
Идею, подобную той, которая легла в основу романа Эрве Ле Теллье, использовал и Станислав Лем в трактате «Сумма технологии» (1963), и многие другие писатели-фантасты, так что по большому счету ничего принципиально нового французский писатель не придумал. Тем не менее книга нынешнего президента легендарной литературной группы Oulipo в 2020 стала во Франции сенсацией и была удостоена Гонкуровской премии.
Идея вот какая. 10 марта 2021 года из Парижа в Нью-Йорк прибывает самолет рейса «Эйр Франс» 006 с 243 пассажирами и членами экипажа на борту. 24 июня того же года в Нью-Йорке приземляется точно такой же самолет того же рейса с теми же самыми людьми. Оказывается, что в роковой мартовский день воздушное судно попало в грозовую тучу, из которой вылетел не один, а сразу два лайнера, только второй на 106 дней позже первого. В результате необъяснимой аномалии в мире появилось две с половиной сотни человек, которые существуют не в одном, а в двух экземплярах.
Ле Теллье рассматривает, как на сложившуюся ситуацию реагируют разные пассажиры. Компанию выбирает пеструю: опытный киллер, лишенный понятия о нравственности, посредственный писатель, намеревающийся покончить с собой, талантливая киношница, вздумавшая бросить любовника, звезда юриспруденции с блестящими перспективами, популярный хипхопер, скрывающий свою гомосексуальность, летчик, узнающий, что у него четвертая стадия рака, бывший военный, который относится к своей шестилетней дочери совсем не по-отцовски. Наличие толпы двойников создает массу головоломных коллизий, прежде всего этических и правовых. Ле Теллье прослеживает, как власти пытаются с ними разобраться.
Казус рейса «Эйр Франс» 006 вызывает еще и философские проблемы. Случившееся очень уж похоже на сбой программы, и это порождает вопрос о реальности происходящего. Не являются ли все наши тела и чувства всего лишь функциями симуляции некоего суперкомпьютера; грубо говоря, не в Матрице ли мы все? Впрочем, какими бы ни были ответы на этот вопрос, никаких практических действий они не предполагают. То ли дело появление в сентябре в небе над Атлантикой третьего точно такого же «Эйр Франс» 006, потребовавшего от президента США максимально быстрой реакции. Попробуйте догадаться, какой она была, это, увы, нетрудно.
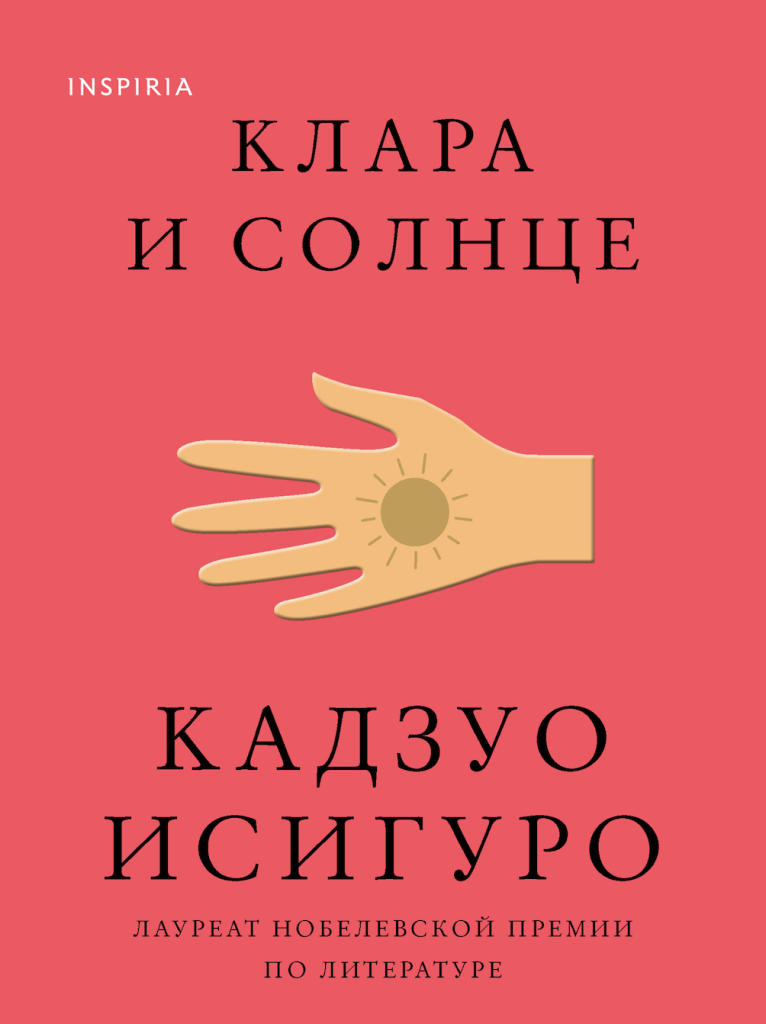
Молитва роботессы
Кадзуо Исигуро
«Клара и Солнце»
Inspiria, 2021
Раньше у Исигуро все романы были совершенно не похожи друг на друга, но теперь эта традиция нарушена: «Клара и Солнце» отчетливо перекликается с «Не отпускай меня». Поклонники предыдущего скорее всего полюбят и нынешний: роботесса-андроид, преисполнившаяся религиозных чувств, – персонаж не менее оригинальный, чем элитные клоны-недочеловеки, которых разбирают на донорские органы.
Действие нового романа британского нобелиата разворачивается в будущем, где детей для повышения их умственных способностей подвергают так называемому «форсированию», то есть рискованной генетической модификации. Функции няньки при них выполняют человекоподобные роботы, именуемые Искусственным Другом (ИД) или Искусственной подругой (ИП). Заглавная героиня – как раз ИП, ее покупают для 14-летней Джози, которая перенесла форсирование не слишком удачно, часто болеет и может скоро умереть. Подобное случается с немалым процентом детей, но родителей это не смущает.
Такой вот прекрасный новый мир.
Со времен Чапека в литературе появилось огромное количество роботов, хороших и разных. Клара из числа сугубо положительных: ведет себя скромно, но с достоинством (у ИП есть собственная гордость), во всем старается помочь Джози, но не проявляет навязчивости, учится у людей человечности и порой в этом плане заметно их превосходит. Собственно, это и есть главная тема романа. Что такое человечность? Только ли человеку она присуща? До какой степени можно рассматривать робота как личность? И наконец, самое интересное: что делать роботу, если ситуация совершенно безнадежна и спасти может только чудо?
Человек, существо несовершенное, в таких случаях прибегает к молитве и религиозным ритуалам, тут все понятно. Но когда точно таким же образом поступает начиненный микрочипами силиконовый болван на солнечных батарейках, избирая себе в качестве Бога, само собой, животворящее Солнце, – это вообще как? Обладателей религиозного сознания такой поворот событий наверняка порадует: глядите, даже машины веруют, и их вера творит чудеса. Для тех, кто такового сознания лишен, «Клара и Солнце» – свидетельство человеческой ограниченности. Мало того, что люди насоздавали всевозможных богов по своему образу и подобию, так они еще и умудрились приписать собственные слабости роботам.
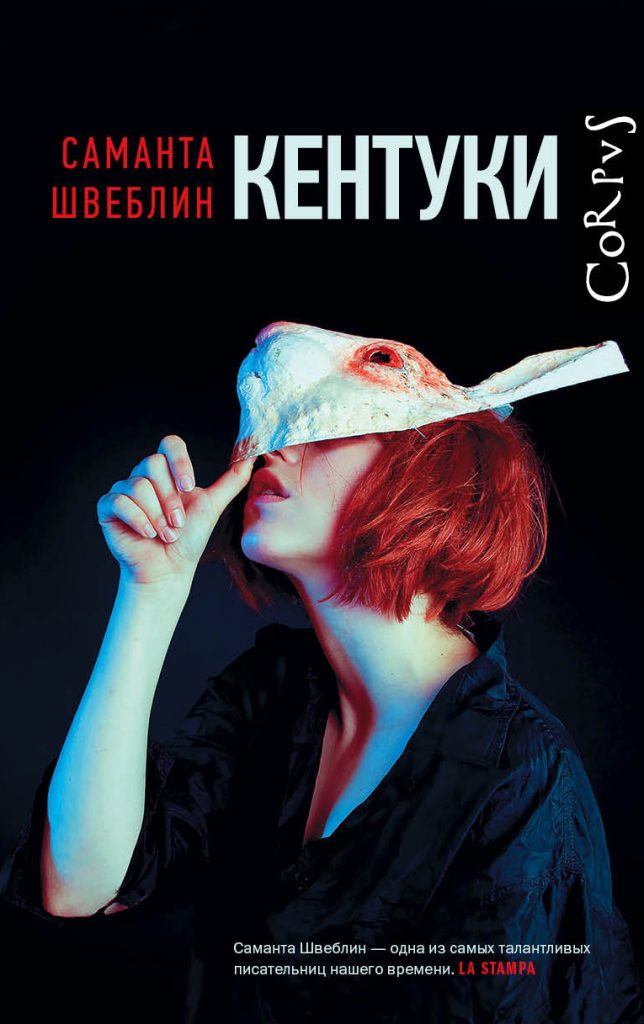
Штучка на колесиках
Саманта Швеблин
«Кентукки»
Corpus, 2021
Аргентинская писательница немного забежала вперед и описала гаджет, до которого еще не додумались изобретатели. Представьте себе небольшую плюшевую игрушку, зайчика или белочку, пандочку или дракончика, снабженную сенсорными датчиками, камерой, микрофоном и колесиками, а еще способную открывать и закрывать глаза. Называется эта штуковина кентукки (к американскому штату никакого отношения не имеет). Фокус в том, что управляет кентукки некто (этот человек зовется «жизнью»), находящийся где-нибудь за тридевять земель. Причем обладатель игрушки (он зовется «хозяином») изначально понятия не имеет, кто именно этот человек.
Только представьте, какое количество всяческих коллизий может породить эта невинная на первый взгляд игрушка. Кентукки может стать добрым другом, связывающим семилетнего ребенка и 80-летнюю старушку. Японский мужчина-«жизнь» может начать ревновать итальянскую девушку-«хозяйку», из-за чего ее кентукки будет возмущенно покидать спальню во время визитов любовника. Три американские школьницы забавы ради вздумают показать кентукки свои сиськи и установить вербальную связь с «жизнью» при помощью доски Уиджи, а управляющий зверушкой дядька из какой-нибудь Румынии станет их шантажировать. Кентукки может оказаться свидетелем преступления, и его «жизнь» разобьется в лепешку, чтобы вычислить место происшествия и проинформировать местную полицию. И это лишь малая часть из всех возможных вариантов.
Причин стать «хозяином» или «жизнью» кентукки предостаточно. Любопытство. Вуайеризм и эксгибиционизм. Одиночество, потребность в ком-то близком вкупе с нежеланием вступать в полноценные отношения и жертвовать частью личного пространства. Возможность контакта с неизвестным, подогревающая интерес непредсказуемость. Кентукки – отличная замена собачке или кошечке: не гадит, еды не требует, гулять не просится, если вовремя подзаряжать, никогда не сдохнет. Характерно, что в романе Швеблин возникает тот же вопрос, что и в книге Исигуро: а можно ли считать кентукки личностью? Что если игрушка, то есть ее «жизнь», ненавидит своего
«хозяина» и мечтает от него сбежать?
Отличную штуковину придумала Швеблин, не удивлюсь, если скоро ее и впрямь изобретут. Кстати, кем вы предпочли бы стать, хозяином или «жизнью»? Подумайте, уже пора.

Гонять, терзать, вонять
Рейчел Йодер
«Ночная сучка»
«Эксмо», 2021
Молодым матерям нынче приходится нелегко. Вообще-то им всегда было нелегко, но, согласитесь, что в нашу эпоху им гораздо сложнее. Раньше можно было растить ребенка и ни о чем этаком не думать, а теперь долгий декретный отпуск может сломать карьеру. В былые времена о связанных с материнством психологических проблемах и слыхом не слыхивали, а сейчас о послеродовой депрессии знают все кому не лень. Когда-то дети росли как трава, а за последнюю сотню лет по их воспитанию написали тысячи пособий, и поди пойми, какое правильное. В XIX веке можно было шлепнуть капризного малыша по попке и поставить в угол, а вот в XXI такое не прокатит, будь добра искать цивилизованные подходы. Как со всем этим справиться? Рейчел Йодер, молодая писательница, а также, что неудивительно, молодая мать с американского Среднего Запада, предположила, что лучший выход для женщины в такой ситуации – превращаться по ночам в собаку.
Йодер сравнивают с Кафкой, но это сравнение немного банальное и натянутое. Все-таки Грегор Замза сделался насекомым не по своей воле, его превращение было полным, окончательным и безоговорочно трагическим. С Ночной Сучкой, измученной одиночеством и материнскими заботами, все иначе. Периодические перемены, происходящие с организмом, поначалу ее пугают, но, почувствовав себя полноценной зверюгой, она входит во вкус, отрешается от человеческих проблем и начинает испытывать ни с чем не сравнимое, поистине животное наслаждение. Какое счастье гонять лошадей по скотному двору, разрывать шеи кроликам и садиться голой задницей на огромный украшенный торт. Какое счастье трахаться с незнакомыми псами. Какое счастье вонять. Какое счастье быть чудовищем.
Йодер написала прелюбопытный роман о бунте против цивилизации и социального давления, о силе первозданных инстинктов, о том, что материнство как ничто другое актуализирует в человеке животное начало. Конечно, превращение в собаку следует рассматривать как эффектную метафору, и вообще «Ночная сучка», несмотря на все свои брутальные стороны, – роман светлый и оптимистичный: оказывается, из кафкианского кошмара можно сделать успешный арт-проект. А еще это инструкция для мужчин. Если вашей жене, молодой матери, захочется какое-то время побыть сучкой, постарайтесь ей в этом не мешать.