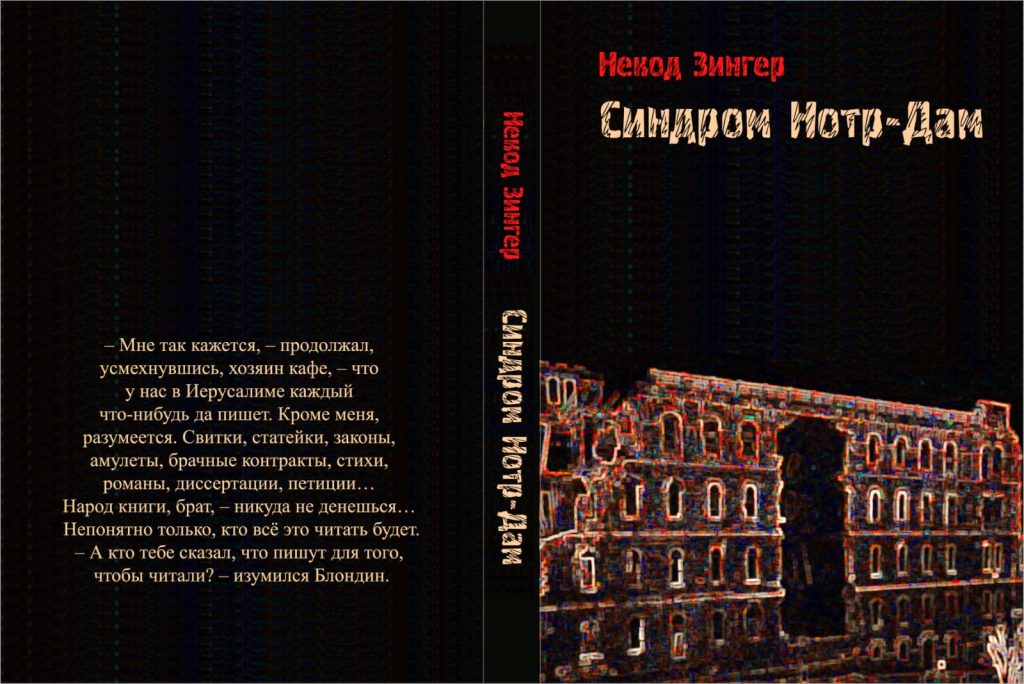Роман «Синдром Нотр-Дам» Некода Зингера – один из наиболее самобытных в сегодняшней русско-израильской литературе. Его события происходят в начале 60-х годов в Иерусалиме, половина которого оккупирована Иорданией. В оставшейся свободной части, в странноприимном доме монастыря Нотр-Дам, расположенного против Новых ворот Старого города, живут бездомные, чудаки и студенты, попавшие сюда из разных концов света, пережившие мировые и израильские войны, пережившие Шоа. Они пытаются заново собрать свою жизнь по кусочкам. Один из них, главный герой романа, одетый в гимнастерку, называемый Блондином и имеющий удостоверение личности на имя Йонатан Раз, человек-тайна (раз – тайна, на иврите), не помнит, кто он. В нем словно живет множество личностей, выходцев из разных стран и говорящих на разных языках. Он, как и все в Иерусалиме, пишет, то есть пишет литературу, и фрагменты его письма составляют костяк романа, каковой костяк обрастает многочисленными историями других людей, полными приключений, грустных и смешных, иногда переходящих в фарс. Осью сюжета становится ожидание Разом таинственной незнакомки, нафантазированной им еще в детстве. Ее появление в финале романа кладет конец его письму.
Как и в двух предыдущих романах, «Черновики Иерусалима» и «Мандрагоры», в этом романе Зингер погружен в размышления о литературе, Иерусалиме и времени, и, как и прежде, нас поражает способность писателя глубоко проникать в многообразные пласты культуры и истории, с пониманием и самоиронией вглядываться в мятущуюся душу репатриировавшегося Вечного жида, ни на секунду не впадая при этом в эмигрантщину. Его художественно-философский метод позволяет свободно взаимодействовать с символическими комплексами как Израиля, так и стран исхода его обитателей, не поддаваясь при этом соблазну ностальгии, причем даже когда ностальгируют его герои. Идейная основа этого метода в том, что Иерусалим, как и его обитатели, не тождествен себе, а представляет собой конгломерат или, если воспользоваться излюбленным Зингеровским сравнением, калейдоскоп образов других городов, знаков и индивидуальностей. Разотождествление субъекта, человека ли, города ли, было опробовано Зингером уже в первом его романе «Билеты в кассе» и также служит одной из основных установок в поэзии Гали-Даны Зингер. В финале романа, являющемся также его сюжетным и идейным апогеем, на предложение Раза подняться на крышу Нотр-Дама, чтобы смотреть на Старый город, возникшая ниоткуда таинственная незнакомка отвечает: «Зачем нам на него смотреть? Старый город… Я и так знаю, что мы увидим: кинотеатр «Маяковский», аптеку № 7, старый, как мир, Pont Neuf, Naturkundemuseum с его сухими костями, гробницу прекрасной Солики, Первомайский сад, уличный рынок в Уайтчепеле». Как такое возможно и что это, если не ностальгия?
Ответ заключен в каждом из стеклышек калейдоскопа и в их переменчивых совокупностях. Раз бродит по Иерусалиму, но всякий раз оказывается в других городах, переживая то, что называется в романе «смещением пространства». В одном из своих воспоминаний, он воспроизводит детское воображение, в котором рождаются люди и другие существа: «И тогда происходило настоящее чудо: из черной черноты, из абсолютного небытия, из самой идеи отсутствия и пустоты выплывали картины дивной красы и предельной яркости. Ни одно из этих видений нельзя было наблюдать при свете дня, в так называемой “реальности”. Это было чистое свечение, принимавшее бесконечное калейдоскопическое разнообразие непрерывно изменяющихся форм». Источником этого мировидения является не эмигрантское отчуждение, а романтическая мифологема эстетической теургии. Во взгляде героев на город возникают образы других городов не потому, что души эмигрантов расколоты и отчуждены, а напротив, потому что все эти города всегда уже были черновиками Иерусалима, Иерусалим уже был в них, а они – в нем, и вот теперь можно, наконец, прочесть чистовик. Так, по мысли автора, устроена наша культура, и он пытается передать нам это знание.
Даже на фоне по-хорошему необычных русско-израильских писателей проза Некода Зингера вызывает повышенный интерес. Его романы, начавшие выходить в середине нулевых, формируют новую, всегда неожиданную иерусалимскую словесность. Особенность его письма состоит в напряженном притяжении и отталкивании от провозглашенного еще в начале 90-х годов им и Гали-Даной Зингер принципа неоэклектизма, суть которого в наложении друг на друга множественных картин реальности, возникающих в сознании писателя, и как следствие – индивидуалистическое использование любых стилей и поэтик без подчинения их конвенциям. Таким воплощением неоэклектизма оказывается и город Иерусалим, и личность нового иерусалимца в романе. По замыслу автора, монастырь «Нотр-Дам» – это эклектический универсум или, другими словами, воссозданный в пространстве роман. Он сравнивается, хотя и с оговорками, с лавкой древностей, с нагромождением вещей и слов из разных мест и разных детств. Роман развивает художественный метод, состоящий в попытке ускользания от любых определенностей и принадлежностей, от любого постоянства, невольно продолжая тем самым экспериментальную линию радикально фрагментарного русско-израильского «внеизма», представленную, например, Линор Горалик, И. Зандманом, Александром Шойхетом, Марком Котлярским (у него я и подслушал это словечко).
Роман обращается к хорошо известным темам русско-израильской (и не только) литературы, но переосмысливает их по-новому. Так, например, образ героя, забывшего, кто он, мы встречаем в повести Дениса Соболева «Пробуждение», однако о герое Зингера можно сказать, что он не столько не помнит себя, сколько помнит слишком многих, потенциально неисчерпаемых «себя», помнящих разные жизни, говорящих и пишущих на разных языках. Наложение образов городов исхода на города Израиля весьма распространено в русско-израильской литературе, например, в романе «Иерусалим» того же Соболева. В паутину олимовской «реальности дочерней» Иерусалим превратился в романе «И/е_рус.олим» Елизаветы Михайличенко и Юрия Несиса, но Зингеру удается передать ее глубокое многоязычие. Израиль как «перекрестье» культур и идей мы встретим у Александра Любинского, но у Зингера оно не складывается в какую бы то ни было «школу» в духе александрийской; как бесприютный приют для юродивых, странников и непризнанных гениев – у Леонида Левинзона и уже упомянутых выше авторов, но Зингер остается не в пример более ироничен, карнавален и жизнерадостен, чем они. Герои-писатели или художники, живущие в прерывистом, словно задыхающемся творческим ритме, встречаются, например, у Михаила Федотова или Дины Рубиной, но Зингер отходит от доминирующей, равно русской и еврейской, линии духовных исканий в глубинах трагической и жертвенной судьбы. «Нотр-Дам» Зингера мог бы напомнить «Йошкин дом» Виктории Райхер и другие бесчисленные литературные санатории на волшебных горах, палаты номер шесть, запертых в них мастеров и их записки сумасшедших, но его странные герои значительно более «здоровы», чем их предшественники, и близки, скорее, к образам эксцентричных и чудаковатых иерусалимских прожектеров из «Мандрагор», предыдущего его романа, чем к обычным литературным душевнобольным.
И всё же, несмотря на его самобытность, в главном роман глубоко укоренен в русско-израильском культурном контексте. Источник его поэтики, как и всего русско-израильского поэтического проекта, это система замещений, направленных на преобразование «израильского», которое само по себе недоступно для восприятия русско-советским репатриантом в качестве системы культуры. У Зингера, как и у многих других «русских» израильтян, Израиль замещается Иерусалимом (интересный вопрос, является ли это замещение метонимией или синекдохой, и здесь открывается целое поле для психолингвистических и историко-философских спекуляций), Иерусалим замещается иерусалимским синдромом (особенно в двух предыдущих романах Зингера), а теперь и этот последний замещается другим синдромом – синдромом Нотр-Дам, не традиционным, а изобретенным самим автором и представляющим собой, по словам героя-психиатра Йозефа Тушки, «модель всего человечества». Кроме того, нужно указать еще на одну любопытную находку писателя. В дополнение к тем техникам, которые он использовал прежде, в новом романе появляется прием фотографирования картин прошлого, сопровождающегося выкликом «Клик!». Он отсылает одновременно и к столь важному для Некода Зингера и Гали-Даны Зингер искусству фотографии, и – в духе игривого анахронизма – к сегодняшнему миру интернета и гипертекста.
Далее, углубление в сознание, пораженное синдромом Нотр-Дам и кликовой компульсивностью, сопряжено с рассеканием связных нарративов и образов реального. Зингер находит свою стратегию письма после Шоа. Событийность и фигуративность сохраняется, но любое высказывание обрывается или может быть непредсказуемо оборвано в любой момент. Дело не в том, что текст эклектичен, а в том, что он хаотически эклектичен, при этом каждый из собираемых в узор компонентов оборван на полуслове. Нарратив, говоря словами классика, «внезапно смертен». С тех пор, как в начале 90-х концепция неоэклектизма была сформулирована, Зингер пытается ее избегать, но он бежит не в сторону завершенности, а наоборот, от нее, в сторону усиления эклектичности. Это вызвано разорванностью восприятия реальности, коллажностью мышления, когда всё накладывается на всё, всё перекликается со всем, от слова кликать и также click. Продолжая языковую игру автора, я бы назвал это экликтизм (эсlickтизм). То есть это сетевой неоэклектизм, свойственный уже сегодняшнему типу сетевого мышления. Чтобы подчеркнуть его кликабельный, коллажный, всеобщий и рваный характер, можно было бы назвать его гипер-эклектизмом, но надо помнить, что он всё же отличается от ставшей уже обычной интертекстуальности талмудическо-постмодернистского типа, не обязательно предполагающей стилистический эклектизм или «внеизм».
Йонатан Раз предстает как тот, кто «способен был написать что угодно о чем угодно». Он в некотором роде ходячая сеть, палеонтолог воспоминаний: по одному обрывку он восстанавливает цельный образ, картину реальности, живую историю. Его воспоминания или «клики» материализуются в виде открывающихся «окон» необычной сети – кратких неоконченных новелл, вырастающих из разных времен, мест и стилей, но благодаря сети же как бы существующих в единой одновременности. Эта поэтика восходит к той концепции культуры и искусства, которая получила воплощение в более ранних пластических работах Зингера – в живописи и инсталляциях, и которую можно определить, по названию его выставки 2010 года, приуроченной к двадцатилетию публикации манифеста неоэклектизма, как «свалку мифов». «Кликам» здесь предшествовали артефакты в виде ящиков, в которые были вставлены живописные и объектные инсталляции. Идея культуры как свалки и вообще много разрабатывалась Зингерами в их журналах «Двоеточие» и особенно «Каракёй и Кадикёй», а также их авторами, как, например, Александром Щербой. Техника оборванного на полуслове высказывания также возвращает нас к поэзии Гали-Даны Зингер, в особенности к ее книге «Часть це» (2005). Концепция же «свалки мифов» в свою очередь восходит, пусть и в игровом и провокативном виде, к фундаментальным основам романтизма и более позднего символизма, где сознание, как и язык, рассматривается как непрекращающееся рождение и умирание мифов.
Таким образом, главной характеристикой поэтики Зингера в данном романе можно считать не столько неоэклектизм или гипер-эклектизм, сколько ту конкретную форму, которую он принимает: незавершенность высказывания, сорванный нарратив. Причем это проявляется и на уровне рассказчика, и на сюжетно-тематическом уровне: герои постоянно произносят, пишут, слушают и читают недописанные рукописи, обрывки писем, неоконченные рассказы. Одна из героинь называет этот тип речи «Анти-Шахерезада», и это еще один удачный и точный образ, найденный автором. Если нарратив и превращается в калейдоскоп, то это особый калейдоскоп с неисчерпаемым набором форм, складывающихся в причудливые орнаменты. Каково происхождение этой странной, но яркой поэтики? Зингер иногда сравнивает свой метод с талмудическим, устанавливая тем самым преемственность с такими любопытными литературными экспериментами, как «Шебсл-музыкант» Якова Цигельмана. Но именно это сопоставление быстро выявляет ограниченность такой генеалогии: орнаменты Зингера носят отнюдь не герменевтический характер, его речь гораздо более склонна к рассказыванию историй, пусть и устами «Анти-Шахерезады», чем к толкованию, к неисчерпаемости форм, а не значений. В то же время, очевидно, что разорванность «свалки» носит не столько хаотический, сколько игровой характер, и из хаоса всплывают некие диссипативные, то есть быстро распадающиеся, но временно вносящие в свалку порядок структуры.
Отчасти роман и в самом деле близок к орнаментализму, возникшему на волнах авангарда начала двадцатого века. Город и текст в некотором смысле возникают здесь как орнаменты, где значимость обретают не столько отдельные образы, герои, сюжеты и ритуалы, сколько то, как они складываются в смысловые блоки (парадигмы) вне линейных текстовых последовательностей (синтагм). Вольф Шмид в книге «Проза как поэзия» указывал, что эта техника сближает прозу с поэзией, выводя на первый план лейтмотивы и эквивалентность повторяющихся элементов. В этой поэтике слово становится вещью, модернизм сливается с архаизмом в символе. При этом ученый противопоставлял (впрочем, на мой взгляд, ошибочно) мифологизм и событийность, а далее выделял «гибридную прозу», соединяющую событийность и орнаментальность, психологию и миф. В случае Зингера, несмотря на некоторое сходство, можно говорить об орнаментализме только в отвлеченном смысле: в самом деле, Раз регулярно заходит в кафе и пишет свои удивительные откровения, герои уходят из Нотр-Дама и возвращаются в него, скучные нотации литературоведа Рафаэля Магида назойливо повторяются, поросенок бегает кругами, умершие оживают, незнакомка, возникшая в воспоминании в начале, встречает героя в реальности в конце. Как легко заметить, в таком виде границы орнаментализма становятся слишком широки, поскольку подобные элементы легко обнаружить едва ли не в любом прозаическом тексте. И всё же можно говорить о том, что некий условный орнамент «ящичков» или «окон» и есть та диссипативная структура, которая вносит временный, калейдоскопически меняющийся порядок в хаос форм, высказываний и мифов. Двойственное впечатление от прочтения романа возникает оттого, что его поэтика происходит из двух разнородных источников – романтизма и его далекого потомка, авангардизма.
Роман полон идей романтизма и рассуждений о нем, что не оставляет у читателя сомнений в эстетических и философских предпочтениях автора. Разные фрагменты или новеллы, входящие в роман, написаны в разных стилях. Для наглядности коснемся вкратце одного репрезентативного примера. Весьма любопытна псевдо-романтизированная новелла, имеющая вид комического анекдота, основанного на реальных событиях, о том, как вставная челюсть монашки Нотр-Дама сестры Беатрис выпала из ее рта и угодила на разделительную линию, а затем была благополучно возвращена благодаря усилиям сильных мира сего, от Папы Римского до Короля Иордании. Автор стилизует новеллу так, как обычно звучат в переводе на русский язык европейские романы Нового времени от Рабле, через Сервантеса до восемнадцатого века: «изысканный стиль», иронический пафос, преувеличенная сентиментальность и видимость мелодраматизма, легкий маньеризм. Так романтизм, а до него барокко, стилизовал или пародировал средневековье, каким оно ему представлялось. Характерная деталь этого приема – намеренная романтическая «ошибка», когда в тексте новеллы упоминается «средневековый доктор Айзенбарт». Речь идет о враче, благодаря своей кочующей лицедействующей группе ставшем комическим героем немецкого фольклора. При этом Иоган Андреас Айзенбарт (1663-1727) жил вовсе не в средневековье, а накануне расцвета романтизма. То есть перед нами романтическое мышление, высмеивающее предыдущее, просвещенческое и барочное поколение и фантазирующее о средневековье.
В этом же духе, роман пропитан литературными и историческими аллюзиями, по большей части сериокомическими – гротескными, игровыми и пародийными, но отражающими серьезные, если не сказать – меланхоличные, размышления автора. Таков, например, смешной анекдот о сбежавшем поросенке, которого автор настойчиво сравнивает с Агноновским псом Балаком из романа «Вчера, позавчера» («Тмоль шильшом»). Повторение трагической эпопеи о начале двадцатого века в виде фарса о начале шестидесятых, вкупе с многочисленными отсылками к прототипам героев из мира ивритской литературы, наводит на мысли о непростом пути, по которому шла израильская литература и культура в эти судьбоносные годы. Трудные послевоенные поиски свободы как в литературе и филологии, так и в общественной и политической реальности выводили на первый план удивительных людей, одержимых синдромом Нотр-Дам. Они обрывали себя на полуслове, мучительно пытались вспомнить себя и других, играли в детство с его наивностью и раскрепощенностью. Голоса выживших в Шоа, до поры умолкнувшие, уже начинали прорываться и разрывать изнутри слаженные строки идеологического диктата.
Как и поросенок и привезший его в Иерусалим киббуцник, все герои романа стремятся к освобождению, к тому, чтобы «воспринимать мир в его незаданности и непредсказуемости». Этому служит и новелла об альтернативной истории семьи Ульяновых и безвременной кончине в Париже маленького Володи. Еще более способствует этому линия магической фантасмагории в романе, как, например, тетрадь Йонатана Раза, которая продолжает писаться сама, когда автор ее оставил, или – апофеоз магико-реалистической стилизации – видение апокалипсиса оживленных поросенком экспонатов музея природоведения, которые прорывают линию разграничения и восстанавливают наконец единство Иерусалима. То же можно сказать и обо всех героях романа: каждый из них, находясь в эпицентре бушующего хаоса истории, за странноприимными стенами обретает свой краткий миг заслуженного или незаслуженного покоя, свою маленькую толику понимания и любви. Сквозь по-гоголевски невидимые миру слёзы, автор смеется над нашими фантазиями и синдромами, играет на наших литературных привязанностях, заранее подшучивает над всеми нашими толкованиями, но в глубине души, быть может, надеется всё же на такое же дружеское понимание, какое сумели обрести его герои.