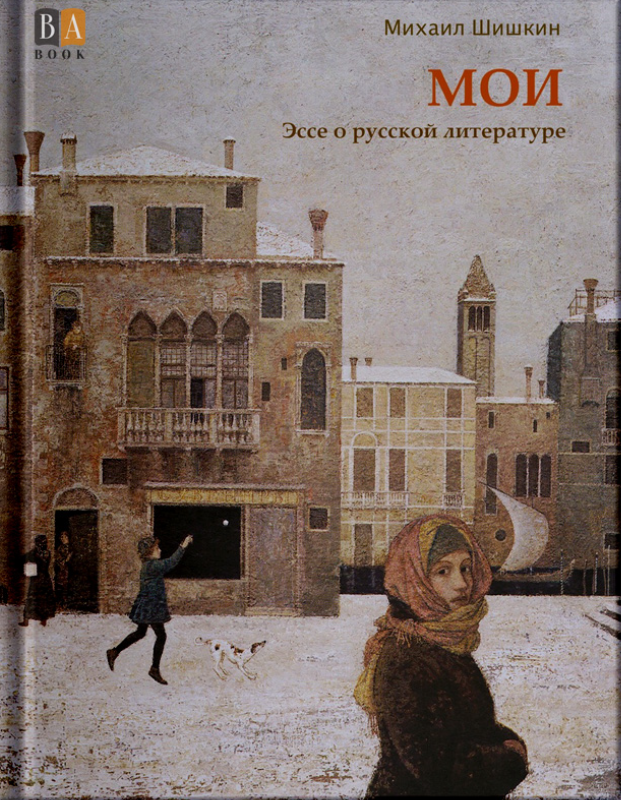Главный враг русской культуры — русское государство
Беседовал Юрий Володарский
Михаил Шишкин поделился с «Новым Иерусалимским журналом» своими соображениями о том, что у литературы нет шансов во время войны, что единственный инструмент для развития сознания — это культура и образование, что Гоголь сражался с языком и проиграл, что после чтения Достоевского стоит помыть руки и что вера Толстого в русского мужика оказалась страшной ошибкой.
Начну с субъективного. На мой взгляд, в современной русской литературе есть два почти во всем не похожих друг на друга великих писателя — Владимир Сорокин и Михаил Шишкин. Обосновывать это утверждение можно долго и обстоятельно; впрочем, полностью оценить значительность и соразмерность фигур на поле русской словесности конца XX — начала XXI веков предстоит уже будущим поколениям литературоведов.
Теперь объективное. В конце мая нынешнего года в независимом издательстве Бориса Акунина BAbook вышла книга Шишкина «Мои. Эссе о русской литературе». Она состоит из десяти текстов, посвященных по-своему важным для Шишкина писателям, а именно — семи классикам XIX столетия (Пушкин, Гоголь, Гончаров, Тургенев, Достоевский, Толстой, Чехов), советскому конформисту (Пришвин) и двум куда менее известным современникам (Шаров, Рагозин).
Свою интенцию Шишкин обозначил в первой фразе послесловия: «Всю жизнь я чувствовал под ногами твердую почву, и это была русская культура. Сейчас под ногами пустота». Причина очевидна: полномасштабная агрессии России против Украины резко изменила отношение ко всему, что так или иначе связано с российским государством. В западном мире русскую культуру начали частично отменять, в Украине она стала абсолютно неприемлемой, в России ее лучшие представители подвергаются запретам, гонениям и репрессиям.
«Мои» можно назвать попыткой заполнения означенной пустоты. Обращением к золотому фонду русской классики и переосмыслением того, как ее слово отзывается через столетия. Поисками твердой почвы под ногами, которую для человека, не мыслящего себя вне русской словесности, могут дать только язык и культура. При этом в эссеистике, в отличие от художественной прозы, для Шишкина характерна жесткая публицистичность, предельная откровенность, мандельштамовская «последняя прямота». С не меньшей прямотой писатель ответил на вопросы «Нового Иерусалимского журнала».
— Расскажи, пожалуйста, когда возник замысел книги «Мои» и как долго ты ее писал.
— Эту книгу я не писал. Она сама получилась. У каждого человека должен состояться один самый важный разговор — со своими родителями. Чаще всего люди проживают свои жизни, этот самый важный разговор пропустив. Это скорее нормально — ведь невозможно вдруг за завтраком, когда все спешат, или за ужином, когда футбол вот-вот начнется, сказать: стоп, сейчас все откладываем и ведем самый главный и единственный разговор в нашей жизни.
У меня с моим отцом и с моей мамой этот разговор получился только, когда их уже не было в живых, — в моих книгах. Вот и у писателя должен состояться такой самый важный «разговор с родителями». Я вел этот разговор с авторами, которые сделали русскую литературу — а значит, меня, — много лет. Война все обострила. Нужно было понять, как это смрадное зло могло вырасти из моего мира. И вылупилось ли оно действительно из книг, на которых вырос я? Или мои авторы держали круговую оборону, защищая культуру от варварства до последнего? Они проиграли тогда, мы проиграли теперь.
Эта книга — мой разговор с моими писателями о том, как и почему мы проигрываем и почему все равно мы будем держать оборону до последнего.
— В предисловии ты задаешься вопросом: «Зачем литература, если она не спасла ни от ГУЛАГа, ни от СВО?». Но разве литература вообще может спасать от таких вещей? Великая немецкая литература не спасла Германию от нацизма.
— Конечно, литература — лузер, когда население ищет спасение в крепкой руке и приветствует фюрера, у литературы нет никаких шансов, когда начинается война. Литература не для этого. Для злободневной политики существуют газеты, блоги. Нужно понимать, что человечество на своем пути из животного мира к человечности еще сделало только полшага. Дело не в компьютерах и космических кораблях: и то и другое можно использовать и для варварского уничтожения. Все дело в переходе от примитивного племенного сознания к индивидуальному, в развитии личности, которая сама несет ответственность за все, а не перекладывает ее на власть. Не народ или царствующий президент говорят тебе, что хорошо и что плохо, а только ты сам решаешь, что есть добро, а что зло.
Если я вижу, что моя страна березового ситца и «народ-богоносец» творят зло, я буду против моей страны и моего народа. Большинство моих соотечественников давятся этим патриархальным сознанием, но будут покорно класть голову на плаху: царю видней, родина-мать зовет, русские своих не бросают. Единственный инструмент для развития племенного сознания в индивидуальное — это культура, образование. Поэтому все режимы в России всегда были главными врагами культуры, а в школах всегда главным предметом было думать строем и говорить в ногу.
Эту подлую войну население моей страны поддерживает не потому, что начиталось Чехова и наслушалось Рахманинова, а потому, что настоящую культуру, которая является средством пробуждения чувства собственного достоинства, всегда гнобили, а населению наливали в лохань патриотическое пойло. Ни один учитель не повесит у себя в кабинете литературы под портретом Толстого его слова: «Патриотизм — это рабство». Возвращать людей в состояние племени, уповающего на фюрера, проще, чем воспитывать свободную личность. Мы видели это в нацистской Германии, мы видим это в стране, которая из всей мировой культуры выбрала себе в наследство лишь литеру Z.
— Ты пишешь: «В России нельзя быть ни с властью, ни против власти. И то, и другое губительно». Но ведь и быть в стороне — не всегда спасение. Хармс, Заболоцкий, Бродский не выступали в качестве противников режима, но это не спасло их от гибели, лагерей, ссылки и выдворения из страны соответственно.
— Главный враг русской культуры — русское государство. И Хармс, и Заболоцкий, и Бродский, и все, кто пытался делать свободную литературу, были противниками режима уже потому, что хотели отнять у него монополию на русский язык. На этой территории все должно принадлежать государству, верховному хану, в том числе и язык. Поэтому путинские «идеологи» используют русский язык как оружие в тотальной «гибридной войне» против всего мира: там, где говорят по-русски, там наши рабы, наша власть, а значит, и наша территория. Писатель, русло для языка, должен, по их понятиям, словами орошать патриотические нивы, внятно объяснять читателям, что кругом кровожадные враги, поэтому «не жалеть нам имения своего, не жалеть ничего, дворы продавать, жен и детей закладывать, бить челом тому, кто бы вступился за истинную православную веру и был у нас начальником».
Все режимы использовали «совписов» и «патриотов», но относились к ним всегда настороженно: все-таки они для армейского образа жизни чужие, потенциальные предатели, мало ли что эти умники у себя в потайных дневниках пишут, вроде Пришвина. А если ты пытаешься писать по-русски и при этом сохранить человеческое достоинство — все рано или поздно кончится плохо. Поэтому эмиграция, когда это еще возможно, — не только бегство заложников, но и акт сопротивления. И ответственность за сохранение и развитие свободной культуры на русском языке.
— Может, в России просто вообще нельзя быть? Думал ли ты об этом, когда уезжал в Швейцарию?
— Нет, не думал. Да я и не «уезжал». Это с планеты Совок уезжавшие исчезали, катапультировались куда-то в глубины космоса, а в 90-е казалось, что страна наконец приходит в себя после припадков идейной эпилепсии, в которой она билась несколько поколений. Границы открылись, воздух хлынул внутрь, и казалось, что атмосферное давление выровнялось, что дышать и жить теперь можно будет везде. Я и жил везде: одной ногой в Швейцарии, другой в Москве, третьей в Берлине, четвертой в Америке. А потом эпилептические припадки страны возобновились.
В 13-м году, еще перед мочевидной олимпиадой и перед «крымнашем», я в открытом письме отказался представлять РФ на международных книжных ярмарках, не хотел, чтобы меня использовали как человеческую маску. Сказал, что буду представлять мою страну, страну культуры на русском языке, а не государство, которое эту культуру уничтожает. В России, разумеется, «просто вообще быть» можно, только сперва ты должен решить, кем ты хочешь там быть. Это бандитское государство, оно терпит деятелей культуры только как «шестерок на стреме». Хочешь испускать «патриотизм» — вот тебе театр, испускай. Не хочешь — «иноагент». Или сиди молча. Если не хочешь сидеть молча, то так и есть: в России просто вообще нельзя быть.
— «Какой-то злобный Дионис дал русской власти способность превращать все, к чему она прикоснется, в такое же смердящее, как она сама». Есть ли в истории периоды, когда российская власть, с твоей точки зрения, была приемлемой?
— Мы в гражданской войне уже двести лет. Дважды побеждали и приходили к власти. В феврале 17-го и в начале 90-х. Но те слова, в которых для нас живут внятные реальные понятия — гражданские свободы, демократические ценности, правовое государство — для большинства соотечественников были лишь «дерьмократией». Отсутствие крепкой власти оказалось не окном возможностей для построения демократического общества, а отсутствием порядка, криминальным хаосом.
Нет такого волшебного слова, которое в одночасье превратило бы совковый «электорат» в сознательных граждан. Критическое мышление, уважение к личности воспитываются поколениями — и это при условии, что необходима действительно огромная кропотливая работа по воспитанию качеств свободного гражданина в каждой школе, в каждом детском саду, в каждой семье. Однако задача министерства образования во все русские времена была совсем другая — воспитывать послушных холопов. В отечественном народном образовании важно «патриотическое воспитание», а не умение критически мыслить. И вообще, главным воспитателем там всегда была улица с ее тюремным менталитетом и законами. И L’Éducation sentimentale завершала обязательная служба в армии. Кто там был, тот знает, что я имею в виду.
— «Гоголь и его восприятие — главное недоразумение русской литературы. Все его тексты — русская Книга Мертвых, а его поставили на полку юмористики». Тут ты близок к Набокову; правда, он высказывался немного иначе: Гоголь не сатирик, а мистик (абсурдист, иррационалист etc). Ты с ним согласен?
— Известный психологический феномен: когда очень страшно, люди начинают смеяться. Это защитная реакция организма. Гоголевский смех — от ужаса. О чем «Ревизор»? Разве это комедия? Почему местные бандиты принимают заезжего балбеса за пахана? Страх застит глаза. Хлестаков уедет, страх останется. Зрители отсмеялись, отхлопали и пошли из театра в тьму, в мир, который держится страхом, в котором правит своя местная банда и верховный пахан.
Как устроить жизнь без держиморд? Извечный русский спор, начатый Белинским и Гоголем. Для одного альтернативы нет: только европейское образование, принятие ценностей цивилизации и кардинальное общественное переустройство. Другому очевидно: если не изменить человека, не вынуть из него холопство, то никакое общественное переустройство не спасет. А изменить человека, по Гоголю, может только вера, только обращение к Христу. В третьем томе «Мертвых душ» Чичиков должен был обрести в себе живую душу, пройдя через страдания на каторге и обратившись к Христу. В XXI веке можно уже подвести итоги этого главного русского дискурса: ни Христос не помог, ни общественное переустройство.
— Читая главы о Гоголе, я вспомнил замечательного украинского прозаика Владимира Рафеенко, раньше писавшего по-русски, а сейчас перешедшего на украинский. В романе «Долгота дней» он пишет с явной отсылкой к Гоголю и его украинским сюжетам: «Роман с чертом — вот это и есть Украина! Любовь с метафизикой, с бытием, со смертью!». Будучи русским писателем по языку, Гоголь, как минимум в ранние периоды творчества, выражал именно украинскую ментальность, во многом отличную от российской, не так ли?
— Так, конечно. Потом с годами Гоголь прорастает в Христово слово, он поднимается на ту высоту, где уже несть ни эллина, ни иудея. Он пытался в своей «поэме» донести другим то, что открылось ему. Но для описания мертвых душ русский язык оказался «великим и могучим», а для рождения живой души Гоголю не нашлось слов. Писатель сражался отчаянно с языком и в конце концов признал свое поражение. Думаю, поражение ждало бы его, пиши он на любом языке.
— Ты пишешь: «С романами Толстого и Достоевского началось вторжение нерационального в западный научный век пара и электричества. Русские слоны полезли в европейскую посудную лавку». Насчет Достоевского невозможно не согласиться, но в чем иррациональность прозы Толстого?
— А о чем «Анна Каренина»? Все экранизации (а их уже за 30) заканчиваются эффектной сценой на вокзале. Но если читать книгу, то понятно, что главной героиней является вовсе не петербургская светская дама, а дыра в человеческой душе размером с Бога, о которой писал любимый Толстым Блез Паскаль. Анна пытается заткнуть ее страстью и за это отправляется автором на страшную казнь в паровозном дыму, а Левин пытается заполнить ее, как полагается, Богом. На Западе «в век пара и электричества» образованным людям верить в креативного деда с бородой уже было неприлично. А тут появляются гениально написанные романы Достоевского и Толстого, в которых главный сюжет — отчаянные поиски Бога. А еще Толстой искренне верил, что правда живет не в европейском образовании, а в русском мужике. Какая правда живет в русском мужике, мир увидел в XX веке и продолжает испытывать на себе в XXI-м.
— С одной стороны, Достоевский — безусловный гуманист; чего стоит фраза о слезинке ребенка. Но с другой, идеи русского мессианства, которые он исповедовал, стали отравой для страны, особенно если посмотреть на нынешнюю российскую идеологию с ее «скрепами», «традиционными ценностями», антизападничеством и экспансивной внешней политикой, включающей военную агрессию. Насколько для тебя совместны в данном случае гений и злодейство?
— Начиналось все у Достоевского вполне гуманистично. Он взялся спасти страну от грядущей катастрофы и стал дописывать третий том «Мертвых душ» за Гоголя. Он был убежден, что только вера в Христа может удержать страну на краю бездны. Он ненавидел революционеров, ибо ему было очевидно, что если не очеловечить Homo sapiens Христом, то попытка изменить общественное устройство обернется кровавой катастрофой, причем в самом непосредственном будущем. Так и произошло.
Вдова Достоевского Анна Григорьевна после Февральской революции 1917 года, спасаясь от беспорядков, поехала из Петрограда на юг, на свою дачу под Адлером на Черном море. Садовник объяснил ей, что все имение теперь принадлежит ему, «пролетарию», и прогнал 70-летнюю женщину. Она поехала в Ялту, где у семьи был дом. Незадолго до ее приезда дом был ограблен, а две проживавшие в нем женщины были зверски убиты топором. На мраморном бюсте писателя в прихожей остались брызги крови. Анна Григорьевна была настолько потрясена этим, что вскоре скончалась в больнице. Сын Достоевского Федор не смог покинуть страну с остатками Белой армии, был арестован чекистами и приговорен к расстрелу. Случайность спасла ему жизнь, но его преследовали болезни и лишения — в 1922 году он умер от голода. Племянник Достоевского, сын его младшего брата Андрея, был арестован в возрасте 66 лет и отправлен в ГУЛАГ. Достоевский, к счастью для него, до этого будущего не дожил.
Гуманизм Достоевского споткнулся на Христе. Христы-то бывают разные. Идея, что православие — единственная сохранившаяся праведная вера, толкнула самого писателя под откос. Отсюда его «русская идея», что русские — избранный народ и что на них лежит миссия спасти православием заблудший в ересях мир. Царское государство, защищающее территорию праведной Христовой веры, — инструмент к «освобождению» других народов. Россия — Христос народов и т.д. и т.п., внимательно читай «Идиота» и другие произведения писателя.
Отсюда его идеологический антисемитизм: избранный народ может быть только один. Если это — иудеи, что те доказывают сорок веков самим своим существованием, то получается, что русские никакой не избранный народ, а самозванцы. На бытовом уровне еще больше евреев Достоевский ненавидел немцев, швейцарцев, поляков и все другие нации. Любил он только «народ-богоносец», который сам и выдумал. Избирательно прочитанный и не совсем понятый Достоевский принадлежит мировой культуре, поэтому его нужно не бойкотировать, а обязательно читать, но не забывать потом, конечно, помыть руки.
— Ты пишешь о Чехове: «Его тексты пропитаны отвращением ко всем идеям, мировоззрениям, ненавистью к шаблонам мышления, стереотипам». Можно ли сказать, что Чехов — это своего рода здоровая реакция русской литературы на то, что ее до тошноты перекормили разнообразными идеологиями?
— Чехову было очевидно, что ни Христос, ни революция не спасут страну, живущую «в овраге». Он видел только один путь: строить школы, открывать больницы, сажать сады. Он не принимал идею, что народ хороший, а правительство плохое. Люди, живущие в неправде и не знающие, как жить по-другому, будут так жить при любом правительстве, воссоздавая в поколениях круг зла и насилия. Если подарить рабу свободу, он захочет быть надсмотрщиком над другими рабами. Нужно дать ему самому возможность освободиться от рабства в себе, «по капле выдавливать из себя раба». Это возможно только через культуру, только через образование. Чехову претило само революционное сознание, упрощение мира до своих и врагов: мы и они, добро и зло. Он восставал против имперскости, которая живет прежде всего в тоталитарности сознания.
Чехов на дух не переносил курсисток, которые убеждены, что знают истину и готовы за нее растерзать любого, особенного того, кто поближе. Они стали потом чекистками и расстреляли бы Чехова, доживи он до революции. Мы пытаемся сейчас освободиться от «имперского» и «колониального» наследия в культуре, но труднее всего освободиться от тоталитарного сознания. Я редко заглядываю в Фейсбук, поражает, как его просто распирает от разборок, которые ведут новые чекистки с яростью носорогов из пьесы Ионеско. Если мы хотим по-настоящему освободиться от империи, нужно освобождаться от этих носорожистых чекисток тоже.
— Удивительна история Пришвина, благополучного советского писателя, всю жизнь державшего фигу в кармане и писавшего правду «в стол». По-моему, аналогов ему в истории советской литературы нет, верно?
— Его дневники — уникальная «история болезни» и самого писателя, и всей страны. Пришвин прекрасно понимал, что, воспевая тирана и его преступления, он, позорный «совпис», сам является соучастником преступления. Этот дневник — не «фига в кармане», а его покаяние перед нами, потомками. Если представить себе, что Прилепин или Водолазкин пишут сейчас тайные дневники с гневным осуждением подлой войны против Украины, которые опубликуют после их смерти, оправдывает ли их это? Думаю, нет.
— Ты пишешь: «В России альтернатива крепкой власти — не демократия, а лишь кровавый хаос». Другой альтернативы нет, это единственная? Ты считаешь, что демократия в России в принципе невозможна?
— Объявите в лагерном бараке демократию, устройте там «свободные» выборы и посмотрите, что получится. Такой эксперимент провели над Россией в 90-е. Результат мы видим. Рано или поздно История этот эксперимент снова повторит. Нужно жить долго.
— Напоследок рискну обратиться к тебе с вопросом, который ты сам не решился задать очень высоко ценимому тобой Владимиру Шарову: «Веришь ли ты в Бога и воскрешение»?
— Нет, не верю. Там ничего нет, все здесь. Смерть, конечно, очевидна. Но есть передача тела. Человек передает тело ребенку. Телом композитора становится его музыка, телом писателя — книга. Через тысячу лет кто-то прочтет слова — если тогда вообще кто-то еще будет читать по-русски: «Где ты, Мисюсь?». И в это самое мгновение Чехов отложит перо, потянется и промурлычет в усы: «А хороший я рассказ написал!».
Биографическая справка
Михаил Павлович Шишкин родился в 1961 г. в Москве. Окончил романо-германский факультет Московского государственного педагогического института. Работал дворником, укладчиком асфальта, переводчиком, редактором, учителем иностранных языков. Автор романов «Всех ожидает одна ночь» (другое название — «Записки Ларионова», 1993, премия журнала «Знамя» за лучший литературный дебют), «Взятие Измаила» (2000, премия «Русский Букер»), «Венерин волос» (2005, премия «Национальный бестселлер», третья премия «Большая книга»), «Письмовник» (2010, первая премия «Большая книга»), сборников малой прозы и эссе «Урок каллиграфии» (2006), «Пальто с хлястиком» (2017), «Буква на снегу» (2019), «Мои. Эссе о русской литературе» (2024). С 1995 г. живет в Швейцарии. В 2013 году по политическим соображениям отказался представлять Россию на международной книжной ярмарке BookExpo America. В июне 2018 года призвал демократические страны бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. В марте 2022 года подписал открытое письмо, осуждающее российское вторжение в Украину.
Заказать книгу Михаила Шишкина «Мои. Эссе о русской литературе» можно здесь: